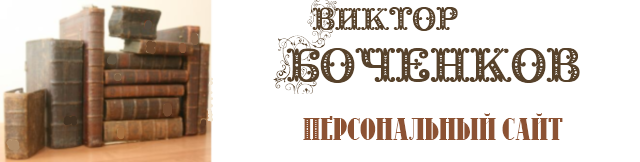Уголовный преступник иерей Щепетов
Часто, но каждый раз проездом случалось бывать мне в Сухиничах, и взгляд успел заметить не все, и облик города плохо сохранила память. Чтобы почувствовать дух города, надо в нем пожить. Не один день. Запомнив внешние черты, не вникнешь в его душу, в характер живущих людей.
Сухиничи — обычный районный центр. Сквер на главной улице, усаженный липами и молодыми рябинками. Каждая в свежем белом чулке. Дома одноэтажные и деревянные, с палисадниками, откуда смотрят на улицу ярко-желтые цветы — золотые шары. На главной улице запомнилась лошадь, запряженная в повозку с горой белых кочанов на желто-глиняной соломе. Рядом с ней — новенький «БМВ». Прошлое и настоящее на сухиничских улицах смотрят друг другу в лицо.
Отбрасывая солнце, блестел белым железом купол Смоленского собора. Без колокольни нет никакого полета в его каменном облике. Впрочем, сейчас ее уже возвели, новую. Рядом — торговые ряды, людской водоворот. Зеленой горкой огурцы в рюкзаках и пластмассовых ведрах, желтые дыни на дощатых лотках, редиска, хвостатая свекла, чеснок на картонных ящиках. В пыли среди овощного изобилия — огромный лохматый черный кобель. Он чешет задней лапой за ухом и чем-то похож на скоморошьего медведя. Уши отвисли, морда такая огромная, как набитый теми же огурцами рюкзак. На торговых рядах чего только нет. Тетради, книги, стиральный порошок, носки, штаны, карандаши, зубная паста, пиво, пирожки, минеральная вода, кресла для офиса...
Некогда Сухиничи славились как торговый центр. Город был важным складочным местом для товаров, отправляемых на Волгу и Западную Двину, большим рынком пеньки и конопляного масла. Торговлей наживались миллионные состояния. Потом город утратил былую славу, но купеческий дух, кажется, жив здесь и по сей день. А от старых времен остались на городском гербе торговые символы — два бочонка и весы.
Городом Сухиничи стали в 1840 году. До этого они были государственным селом. В состав села Сухиничи вошли несколько близлежащих деревень, слившихся с ним в один населенный пункт. Одна называлась Перновичи. В ней жил человек, которому посвящен этот очерк.
В Сухиничах я спрашивал, как найти мне эту местность, Перновичи. Никто не сумел подсказать. Слишком много воды утекло с тех пор в речке Брынь, на которой стоит город, слишком многое забылось...
Как все начиналось
Старообрядческая моленная устроена была в Перновичах около 1800 года[1]. Через семнадцать лет и в Сухиничах возник отдельный молитвенный дом. Судьба его печальна. Калужское губернское правление предписало его сломать, что и было сделано. Кто-то из старообрядцев просил губернатора, приезжавшего в Сухиничи, разрешить строительство новой моленной, но получил отказ[2].
Бревна остались лежать на прежнем месте «в разбросанности». В 1823 году богатый сухиничский крестьянин Никита Васильевич Аксенов перевез их к себе на двор. Земскому исправнику он заявил, что хочет построить склад. Строение было возведено в один день. Старообрядцы, «собравшись в большом числе», возвели у Аксенова во дворе «хоромину», оставалось только крышу соорудить[3].
Тревогу забил сухиничский протоиерей Димитрий Кедров. Сведения дошли до Калужского епископа, и тот обратился к губернатору с просьбой сломать аксеновский «склад». Сомнений не было, что он предназначен для общей молитвы. Во-первых, величина, во-вторых строили его старообрядцы всем миром и «в числе того множества не было ни одного из православных сынов церкви», как сообщал Кедров в консисторию[4].
Под наблюдением сотского «посредством сторонних людей» моленную-склад вновь раскатали по бревнышку в том же 1823 году.
Вскоре губернатору поступило прошение от сухиничанина Афанасия Васильевича Аксенова (очевидно, брат). Он жаловался, что когда разбирали «хоромину», две плодоносные яблони сломали в саду. Убыток составил, якобы, две тысячи рублей, которые Аксенов и просил взыскать с виновных[5]. Чем закончилось дело, неизвестно.
Сухиничские и перновичские старообрядцы не имели своего священника до 1830 года. Известно, что здесь бывали приезжие батюшки, которых специально приглашали, что сами старообрядцы ездили к священникам в другие города, поддерживали связи со Стародубьем.
Яков Гаврилович Щепетов родился в 1777 году. Начинал дьячком. В 1810 году рукоположили его во священника к приходской церкви села Хочева Белевского уезда. Село это и сейчас отмечено на картах Тульской области. Только рядышком стоит пометка, что оно нежилое.
В ноябре 1829 года с дозволения своего епископа Дамаскина (Россова) Яков Гаврилович отправился в Киев поклониться мощам святых угодников печерских. Поехал он через Жиздру. Здесь у него жил свояк. В этом уездном калужском городке Щепетов неожиданно заболел и слег. А когда оправился, срок отпуска подходил к концу. И отложив прежнее намерение, Щепетов повернул обратно в Белев.
В Сухиничах он остановился на ночлег в доме местного крестьянина-старообрядца Андрея Алексеевича Митрофанова. Никто и никогда не узнает, о чем они говорили. Только после этой встречи Яков Гаврилович раздумал служить в Хочеве. Он отрекся от синодального вероисповедания и остался священствовать в Перновичах, поселившись там при старообрядческой часовне. Было это уже в январе 1830 года[6].
Рядовых сельских священников, как Щепетов, часто толкала порвать с прежним приходом бедность и безразличие начальства, несправедливое или слишком суровое наказание. Побег не вел к хорошей жизни, она у старообрядческого священника была не сладкой, а становился для кого-то поиском выхода из житейского тупика, для кого-то — исканием духовного подвига и мира с самим собой... Жаль, о «досухиничской» жизни Щепетова кроме сухих биографических дат ничего больше не известно. О жене священника даже упоминаний не встречается. Скорее всего, он был вдовцом.
Соблюдая закон, старообрядцы поставили в известность губернское начальство, попросив разрешения, чтобы Щепетов жил в деревне официально. Калужский гражданский губернатор написал обо всем Тульскому епископу. Тот уведомил, что Яков Гаврилович отрекомендован в духовном ведомстве «поведения добропорядочного» и что «надобности в нем не имеется»[7]. Разрешение было дано.
Через два года Николай I запретил гражданским властям разрешать священникам господствующей церкви жить и служить у старообрядцев. Щепетова это уже не касалось.
В архивных бумагах сохранилось описание старообрядческой моленной, где священствовал Щепетов. 12 января 1840 года ее осматривали местный становой пристав и чиновник особых поручений при калужском гражданском губернаторе по фамилии Тобиас. Подозреваю, что это тот самый Тобиас, о котором пишет в одном из писем Иван Аксаков (в Калуге они виделись на балу): «Я любовался и советником губернского правления жидом Тобиасом, мошенником страшным, любезником еще страшнейшим...»[8]
Тобиас-то и сделал описание моленной. Она была одноэтажной, из соснового леса и служила когда-то как обычная жилая изба. В длину моленная составляла около шести метров, в ширину — шесть с половиной. Имелась в ней отапливаемая комната, «так называемые сени». Снаружи дом не был оштукатурен, не красился, не обшивался тесом. «Вообще вид часовни довольно бедный, — отмечал Тобиас, — внутри же украшения состоят из нескольких икон»[9]. Впрочем, самое ценное старообрядцы могли заранее припрятать, узнав о приезде начальства.
До Щепетова старообрядцы вынужденно венчались, крестили детей, отпевали умерших в приходской церкви соседнего села Хотень. Как сообщал один из батюшек хотенской церкви, они «приходских священников в домы свои со всякими требами принимали. Но сами... жены и дети их хаживали в церковь в необходимых только случаях, как то: для венчания, крестин и погребения. А на исповеди и у святого причастия у православных священников никогда они не бывали и издавна, по преданию предков их, всегда привержены были к перновичской раскольнической часовне. Когда же появился в ней старообрядческий поп Иаков Гаврилов... с того времени они с семьями их стали ходить к нему на исповедь и приобщаться в часовне Святых Таин. И как между ними есть жены, взятые из православного вероисповедания в других селениях, и дети по необходимости крещены у православных священников, то их... присоединили к раскольническому согласию. А с 1836 года, когда по предписанию начальства отведено им по близости... особое кладбище, с того времени венчают, крестят детей и отпевают усопших в перновичской часовне у означенного Иакова Гаврилова. Уже приходских своих священников в домы не впускают и решительно никаких треб у них не исправляют»[10].
Другими словами, со Щепетовым началась у старообрядцев полнокровная христианская жизнь. Они раскрепостились. Хотеновские священники жаловались потом, что Щепетов «к истинной православной церкви уважение охладил, а ересь раскола усилил». В разговорах и проповедях они пытались наставить старообрядцев на путь «истинный», в ответ слышали: «Когда не станет у нас попа, тогда и пойдем к вам»[11].
В ту пору, когда правительство поставило себе целью медленно искоренить старообрядчество, когда каждый новый указ развязывал властям руки в борьбе с ним, сплочение старообрядцев вызвало тревогу. Против Щепетова развернулась травля.
Первым ударом по священнику было —
Дело Мендель
Нет уже на карте Калужской области деревушки Заборье. Что теперь на том месте: лес, а может поле, засеянное ячменем, картофелем, пшеницей, или ничего — Бог весть...
Когда-то жила в этой деревне бедная еврейская девушка шестнадцати лет. Звали ее Двосса. По отцу — Мендель. На русский лад, значит, Авдотья или Евдокия Емельяновна.
Родилась Мендель в Могилевской губернии в городке Климовичи (он и сейчас там), в местечке Петровичи. Ее родители, «природные евреи», умерли очень рано. Мендель осталась одна с тремя братьями и сестрой. Один из братьев служил в солдатах. Из Могилевской губернии семейство перебралось в Калужскую, тут, в Жиздринском уезде, и поселилось. Двое других братьев Мендель зарабатывали на хлеб тем, что красили ткани. Один потом уехал из Заборья и пропал без вести. Сестра Двоссы жила по соседству в Волковой слободе. Этой деревни, как и Заборья, на современных картах нет.
Другие действующие лица:
- Котомин Федор Максимович. Около восьмидесяти лет. Мастеровой людиновских заводов фабриканта Мальцева. Как и все, старообрядец.
- Харин Василий Абрамович, зажиточный сухиничский крестьянин, в будущем купец.
- Титова Пелагея Николаевна, около сорока лет. «Престарелая девка» из села Брынь Жиздринского уезда.
- Старообрядческие уставщики Терентий и Иван Ефремовы, кучер Егор Устинов, работник в доме Харина Денис Федоров, жена Харина и прочие второстепенные персонажи.
Пятым будет Яков Щепетов.
Время действия — 1835 год.
Приходит возраст, и человеку становится необходимо найти гармонию между своим «Я» и окружающим миром, людьми. Найти духовную опору, которая помогла бы принять мир. Наступил такой момент в жизни Мендель. Родителей она не помнила, сестер и братьев ее разметало; окруженная русскими людьми, девушка не могла перенять иных представлений о жизни, чем те, какие были у деревенских крестьян. Неизвестно, где, с кем именно проживала Мендель в Заборье, почему она вообще там оказалась — евреям было запрещено жить в деревнях и селах... Но факт остается фактом. Девушка решила принять крещение.
Почему же именно старообрядческое?
Вряд ли это было осознанное, рожденное в личных поисках желание; вряд ли руководила ею убежденность в истине старой веры, поскольку девушка потом легко от нее отказалась; вряд ли четко представляла она себе разницу между господствующей церковью и старообрядчеством, столь близким к ней и одновременно далеким; вряд ли она по юношеской неопытности своей понимала в полной мере, чем ей грозит присоединение к старообрядчеству. Скорее девушка жила среди старообрядцев и хотела быть как все...
Креститься в господствующей церкви российский закон разрешал любому. «Исповедующим иную веру и желающим присоединиться к вере православной никто ни под каким видом не должен препятствовать к исполнению сего желания». «Одна господствующая церковь имеет право в пределах государства убеждать подданных к принятию ея учения о вере... Господствующая церковь не дозволяет себе ни малейших понудительных средств при обращении иноверных к православию, и тем из них, кои приступить к нему не желают, отнюдь ничем не угрожает, поступая по образу проповеди апостольской »[12].
На страже господствующего православия стоял гражданский закон. «Как рожденным в Православной вере, так и обратившимся к ней из других вер, запрещается отступать от нее и принять иную веру, хотя бы то и христианскую», — гласил пункт 40 Свода уставов благочиния. Снисхождение делалось для коренных народностей Сибири, вчерашних язычников. Их разрешалось «не подвергать наказанию, если они будут по невежеству упускать христианские обряды». А что касается русских — «кто уклонится в иную веру от православия или жену свою православную принудит, или попустит принять иную веру, или детей своих будет крестить в иную же веру, а наипаче ежели принудит или попустит, оставив православие, быть в иной вере, того отсылать к суду»[13].
Порядок крещения евреев определил в 1831 году январский указ Синода. Сначала им нужно было подать епархиальным архиереям прошение, к нему прилагался документ, где указывались имя, фамилия, звание, вероисповедание, место жительства и др. (т. н. письменный вид). Получив такое прошение, епископ давал команду уездному духовному правлению или консистории (если еврей жил в губернском центре), чтобы с человеком провели собеседование: кто родители, где живут, какого чина-звания, какой религии придерживаются и какую требуют исповедовать. Попутно выяснялось, имеет ли человек искреннее желание креститься или преследует какую-то цель.
Затем под руководством опытного священника евреи изучали православные молитвы, догматы христианства, правила поведения, обязательные для православного человека. Когда батюшка убеждался, что необходимые знания усвоены, доносил об этом наверх. Там устраивали нечто вроде экзамена и, если человек подтверждал намерение стать христианином, то получал на то благословение.
Крестить евреев разрешалось только в городских церквях. Таинство совершалось со всей торжественностью в воскресные или праздничные дни перед литургией. Потом, как положено, священник делал в метрической книге запись о крещении. О нем сообщалось епископу и еще туда, где еврей брал письменный вид. Эти бюрократические «заморочки» оправданы и необходимы: у человека менялось имя. Опасно больных евреев указ позволял крестить без особого разрешения.
К людям, которые могли бы ей помочь креститься, Мендель пришла сама. Никто ее не вел за руку. Хотя дорогу ей наверняка кто-то мог подсказать...
* * *
Представляю ее путь.
Из Заборья в деревню Крутую тянулась черная дорога в две тележные колеи, на дне которых стояли схваченные морозным стеклом лужи. Грязь затвердела острыми комьями. Снеговая скатерть чернела дырами широких проталин. В предрассветной акварели глаз различал темно-желтые, почти коричневые заплатки соломенных крыш... Великое умение требуется, чтобы сложить такую крышу. Стебли не должны нигде переплетаться и загибаться. Иначе станет задерживаться дождевая вода, крыша загниет. Вода должна лететь вниз, как по железным листам. Но правильно уложить снопы еще полдела. Надо уметь привязать их лыком к жердям-перекладинам. Самый прочный материал — лента из липовой коры.
Наверное, потом дорога скатилась под уклон и деревня пропала. Хрустело под ногами ледяное стекло. Мельник твердо обещал свести Авдотью с человеком, который поможет найти старообрядческого священника и креститься. Авдотью мало беспокоило, что в документах останется ее прежнее еврейское имя.
Лес поредел, отступил от горбатой сельской дороги и вскоре, поднявшись на невысокий пригорок, Мендель разглядела крайние избы деревни Крутой. Мельница — старая коробка из потрескавшихся, отшлифованных дождями бревен — походила на черную сову, присевшую зачем-то среди снега. Света в окнах не было.
Ближе подойдя, Авдотья заметила, что в доме мельника горит свеча или лампадка: звездочка мелькнула в черной глубине оконного глаза.
Авдотья зашла под навес у мельницы, где летом стояли крестьянские подводы, груженые мешками. Она не решалась стучаться в дом. Отломила зачем-то сосульку, свисавшую с низкой крыши, и, немного подержав в руках, кинула в сугроб. Пахло сеном и сырым навозом. Скрипнуло от ветра мельничное колесо, шевельнулось и остановилось.
Дверь дома оказалась заперта. Авдотья стукнула в окошко. Никакого света, никакого ответа... Почудилось, что и мельника нет, и Авдотья испугалась пустой и чужой избы.
Но послышались шаги в сенях. Звякнул засов.
Она переступила высокое бревно порога и очутилась в горнице.
— А я уж решил: раздумала.
— Нет, не раздумала... Чуть не проспала...
Мельник погладил бороду.
— Вот что, Авдотьюшка. Сейчас Великий пост, в это время не крестят. Обождать придется. До Пасхи. — Поняла?
— Да.
— Хорошо. Поедем мы прямо сейчас. В Людиновскии завод. Там есть один человек, который все может устроить.
Мельник приблизился к печке и толкнул кого-то, лежавшего там наверху в темном ворохе овчин.
— Вставай, — и он назвал этого человека по имени, но Авдотья его не запомнила.
Незнакомый мужик стащил с печки тулуп и, доковыляв до сарая, вывел под уздцы лошадь, запряг в пустую телегу. Авдотья прыгнула на подводу, подобрала под себя ноги. Мельник запер избу и тоже забрался на солому телеги.
Трогай.
— Н-о-о! — рявкнул незнакомый мужик и ударил лошадь вожжами. Подвода, как неповоротливый и сонный зверь, медленно покатила под гору.
— Но-о-о!
Авдотье запомнилось, как в этот миг мельничное колесо тоже как-то лениво, точно сбрасывая остатки сна, завертелось, пропело что-то скрипучим языком, махая ладонями-лопастями, и в скрипе этом что-то послышалось. Может быть, «счастливого пути»...
* * *
«Он, Козьма, вместе с крестьянином деревни Крутой, а как его зовут, не знаю, когда я тайным образом пришла к нему на мельницу, привезли меня прошлою весною... в Людиновский завод к... Федору Максимовичу Котомину, который меня и принял», — вспоминала потом Мендель[14].
Котомин. Сведений о нем сохранилось мало. Он был ближе всех к девушке тогда, и повороты в ее судьбе так или иначе связаны с ним. В Людинове, кроме Котомина, девушке некому было больше довериться. По крайней мере, другого близкого человека возле нее не видно...
Жил ли старик до нее один?
Какое материальное положение имел?
Почему приютил Мендель? Что связывает его и мельника?
Все это вопросы без ответа.
Больше всех оказался этот восьмидесятилетний людиновский старик виноват в деле Мендель. Срок ему дали небольшой — один месяц[15]. Другие люди, причастные к «незаконному крещению», отделались двумя неделями тюрьмы.
Но не был Котомин несчастной жертвой. Именно он открыл на следствии все подробности дела Мендель.
Котомин укрепил намерение девушки стать старообрядкой. Авдотья признавалась, что именно «по убеждению его, возненавидев свой еврейский закон», решила принять «православное по старообрядческому обряду крещение»[16]. Котомин — опытный садовник, сумевший не дать увянуть этому ростку — интересу к старой вере. Кто первый бросил в душу девушки его семечко, мы не знаем. Но укрепил слабенькие побеги Котомин.
Закончился Великий пост.
В субботу на светлой седмице — первой неделе после Пасхи, Федор Максимович нанял на свои деньги кучера с подводой. Вначале выехали они из Людиновского завода вдвоем с Мендель. По пути остановились в селе Брынь. Тут жила знакомая Федора Максимовича — Пелагея Титова, крестьянка. Он попросил ее быть восприемницей, и Титова согласилась.
В тот же день усталые кони людиновского извозчика остановились в Сухиничах возле дома крестьянина Василия Абрамовича Харина, тогдашнего попечителя старообрядческой часовни в Перновичах. Есть краткое указание, где в то время располагался в Сухиничах дом Харина: «На углу против сухиничской церкви старой»[17]. Я не знаю Сухиничи до подробностей, предлагаю отыскать это место тамошним краеведам.
Крещение состоялось на следующий день, в воскресенье.
Харин, высокий, толстый мужик с круглым лицом, немного заикаясь (это у него было от рождения), велел своему работнику Денису наносить воды в кадку, что стояла в горнице, построенной во дворе дома[18]. А сам направился за Щепетовым в Перновичи.
Вернулся он с двумя незнакомыми людьми. Один был тоже рослый, с большим носом и продолговатым лицом, с редкими черными волосами, в которых серебрилась обильная седина. На лбу у этого человека Евдокия приметила шрам длинною с вершок, не меньше[19].
Этот человек и оказался старообрядческим священником.
Второго, уставщика перновичской часовни, Евдокия припомнила плохо. Потому и нет в документах описания его внешности.
Крестилась Мендель в той самой горнице, что стояла во дворе харинского дома, в деревянной кадке. Горница разделялась на две половины стеной. В одной комнате Мендель принимала крещение, другая представляла собою прихожую. Имелось тут еще одно помещение «с окнами во двор и на улицу» и отсюда удобно было следить, что там происходит.
Присутствовали, когда совершался обряд, Котомин, Титова — восприемники, старообрядческий уставщик Терентий Ефремов и, разумеется, Щепетов. Возможно, и Харин с женой. Мендель нарекли новым именем — Евдокия.
Дальше-то и начинается полоса загадок. О крещении Мендель становится известно властям. Идет следствие. Котомин, Харин и другие привлекаются к суду. Против Щепетова возникает сразу несколько дел. Священника таскают по судам и очным ставкам, запугивают и «увещают». Наконец, спустя четыре года, избавлю ются от него.
Как могли узнать о крещении Мендель? Это — самое большое белое пятно. Простейшее объяснение, что девушка сама проговорилась где-то по неопытности. Но без Котомина дело не развернулось бы столь широко. Он слишком добросовестно обо всем рассказывал... Организатор крещения, он стал потом ходатайствовать о том, чтобы... перекрестить «евреянку» в синодальной церкви. «Я желаю спасения и Царствия Небесного иноверке», — заявил Котомин людиновскому священнику Григорию Попову[20]. Откуда этакое рвение? Обыкновенный способ спастись, продиктованный тактикой защиты, старческой немощью или для него есть иные причины?
Ходатайство свое Котомин объяснял тем, что еврейка не может иметь свидетельства о крещении и что старообрядческое крещение он считает... «несовершенным». «Я же сам хотя и старообрядец, — писал внезапно «прозревший» Котомин, — но крещен совершенным крещением церковным, а не старообрядческим священником, по сему-то самому и ей, Евдокии, желал и желаю принять совершенное крещение»[21].
«Желал и желаю» — а сам к Харину повез!
Дальше больше путается Котомин в показаниях, теряя всякую логику:
«Я не решаюсь принять обряды церковные (г.е. господствующего вероисповедания. — В.Б.) не по чему другому, как по давнему скрытому соблюдению мною старообрядческих правил»[22]. Вот так.
Все, кто привлекался к суду по делу Мендель, делятся на три группы. Первая: те, кто заявил, что крещение было — Котомин, его знакомая Титова и Мендель, которой незачем было лгать. Ей не угрожало никакое наказание. Вторая: те, кто крещение начисто отрицал (Щепетов, супруги Харины). Третья: те, кто ничего не видел, не слышал, не знает (слуга Харина Денис Федоров, кучер Егор Устинов).
Сумели разыскать всех. Но что мог сказать кучер? Привез к такому-то дому, высадил, получил деньги. Ничего особенного не поведал и работник Харина, который, впрочем, мог и догадаться, зачем ему поручили носить воду.
Уставщик Терентий Ефремов умер в феврале 1837 года и показаний не давал. Его сменил родной брат, крестьянин Иван Ефремов. Новый уставщик разводил руками: никаких незаконных треб ни он, ни его брат не совершали со Щепетовым.
Единственным способом защиты Щепетова и Харина было ни в чем не признаваться. Щепетов утверждал, что ни Котомина, ни Мендель даже в глаза не видел. Однако, когда дошло до очной ставки с Евдокией, внезапно захворал. «Сей беглый поп, опасаясь большего уличения, под предлогом болезни уклонился от очных ставок», — сочли в консистории[23]. Но в июле 1837 года встреча священника и Мендель все же состоялась. На очной ставке признаний выбить из Щепетова не удалось. Каждый говорил свое.
Харин утверждал на допросах: да, приезжал к нему старик Котомин с двумя женщинами. Просил помочь крестить одну из них. Но ему отказали. Переночевав, Федор Максимович и обе его спутницы уехали, очень обидевшись. На очной ставке с Мендель Василий Абрамович с женой тоже ни в чем не сознались.
Мендель приобщалась к господствующей церкви, как предписано в указе 1831 года. Подала прошение. Потом с ней занимался людиновский священник Григорий Попов, уже упоминавшийся. Кроме догматов христианства, он втолковал, что старообрядчество — «ничто иное есть, как душепагубный раскол». Девушка призналась, что по молодости лет не поняла разницы между ним и господствующим вероисповеданием[24]. Так ли это было? Может, и так…
20 июня 1837 года Григорий Попов присоединил Мендель к синодальному православию через миропомазание, о чем и доложил в духовную консисторию рапортом. Обряд проводился в храме Казанской Божией Матери в Людиново. А дело, заведенное на Щепетова, Харина и других, шло полным ходом дальше. В 1839 году его слушала Калужская палата уголовного суда и, как требовали тогдашние циркуляры, отправила бумаги в Комитет министров. Там постановили: Василия Харина (к тому времени он был уже купцом третьей гильдии) посадить на две недели, Пелагею Титову тоже, Котомину дали месяц тюрьмы, несмотря на почтенный возраст и ходатайство за Мендель. Щепетова за решетку не упрятали, поскольку крестил он человека, не принадлежавшего к господствующей церкви. Однако из Пернович его постановили убрать. Прежде о том же самом ходатайствовала консистория, но безуспешно.
Срок свой сухиничский купец Харин отбыл полностью летом 1842 года[25]. Узнав о приговоре, он подал прошение, чтобы освободили от наказания, поясняя при том, что не желает приносить какие-либо оправдания по делу о крещении. В прошении было оказано.
Отсидела две недели и Пелагея Титова. После тюрьмы ее отослали к жиздринскому городничему. Тот пропесочил брынскую мещанку, чтобы она «от подобных поступков» впредь «воздерживалась»[26].
Котомина спасла от тюрьмы болезнь. О последних его днях известно из медицинских свидетельств. Требовались справки, подтверждающие, что старик не в силах явиться в суд и консисторию. Их составлял штаб-лекарь людиновского завода, он лично приходил осматривать старика. Эти справки сохранились. «Я, нижеподписавшийся, дал сие свидетельство Людиновского горного завода мастеровому Федору Максимову Котомину в том, что он действительно страдает хроническим ревматизмом и сверх того, имея от рождения до 90 лет, чувствует расстройство в жизненных силах, почему по означенным причинам и не может явиться по требованию Жиздринского земского суда ни в сей суд, ни в духовную калужскую консисторию, в чем сам свидетельствую за подписанием и приложением моей печати, августа 10 дня 1842 года»[27]. Подпись штаб-лекаря неразборчива.
Свидетельства этого показалось мало. Спустя месяц штаб-лекарь еще раз осматривал Котомина. Вторая справка была конкретней. Там говорилось, что Котомин перенес удар, после которого у него парализовало левый бок, руку и ногу и «к излечению которого не предвидится никакой надежды».
Тем не менее, консистория предписала жиздринскому священнику Феодору Зюкову поехать к Котомину и склонить его к господствующему вероисповеданию. Если мастеровой согласится — присоединить, нет — взять письменное свидетельство, что не хочет.
Зюков прибыл в Людиновский завод 10 декабря 1842 года. Местный священник Григорий Попов сообщил ему, что парализованный Котомин 8 декабря умер[28]. Опоздали.
О судьбах других героев истории с Мендель ничего после 1842 года не известно. Смерть Котомина — своеобразная точка в ней.
Дело еврейки примечательно тем, что оно развенчивает миф об узконациональной ограниченности старообрядчества. Старообрядчество понимает древнерусскую эстетику как неизменяемое и стремится всё — церковный и семейный быт, мировосприятие привести в соответствие с ней. Человеку нужно обрусеть, если он хочет быть старообрядцем. Обрусеть — даже русскому по крови. При всем этом национальность — на втором месте, на первом — вера, Христос. Поэтому Щепетов не устраивал девушке допросов, крестил без всяких прошений и экзамена на знание догматов. Крестил, как делалось это в апостольские времена. Нигде Мендель не споткнулась о свою национальность. Но старообрядчество для нее было тем зерном, которое, будучи брошено в добрую землю, не дало всходов. Евдокия не была духовно готова его принять, да и зерно это тут же затоптали...
Дело Зайцевых
В июле 1837 года в Сухиничи с секретным предписанием приехал уголовных дел стряпчий Федор Васильев. Его высокоблагородию поручено было провести дознание о о незаконных поступках» Щепетова, и главной опорой ему в этом деле стали местные священники.
Васильев обратился к батюшкам близлежащих сел: пусть соберут «сведения», как ведут себя старообрядцы, в каких отношениях они со Щепетовым. Посыпался целый бумажный дождь. Обнаруживались новые «преступления» Щепетова, вспоминались старые... Следственная машина заработала, завертела колесами.
Стряпчий объездил все окрестные села и деревеньки, собирал показания с крестьян: кто где крещен, куда ходит молиться. Многих после его визитов заставили присоединяться к синодальному вероисповеданию. Упорных везли в консисторию на увещание. Самых упорных ловили с помощью полиции...
Но пришел ли человек в церковь сам из страха быть наказанным или его привел туда становой пристав — не имеет значения. Если таинство совершается против желания, то присоединения не происходит. Благодать Святаго Духа не может снизойти на человека, который сам того не хочет. Бога нельзя заставить подчиняться указам духовных консисторий и судов. Насильственный обряд не считается действительным. Это глумление над обрядом. Все, что говорил закон о непринуждении и «апостольской проповеди», было в реальной жизни пустым звуком...
Очень долго и очень упорно отстаивал свое право на духовную свободу богатый сухиничский крестьянин-старообрядец Осип Денисович Зайцев. Жену он взял из семьи, приписанной к синодской церкви. Венчались молодые году в 1822-м в приходской сухиничской церкви, чтобы брак зарегистрировать документально. Потом они забыли туда дорогу. Впрочем, жена Зайцева четырнадцать лет не решалась присоединиться к старообрядчеству. Когда в Перновичах поселился и стал служить Яков Щепетов, Зайцев крестил у него детей. Сухиничский приходской священник Гри горий Богданов сочинил на Зайцева «рапорт».
Вскоре Осип Денисович узнал, что его детей решено присоединить к синодальному вероисповеданию, как «уклонившихся в раскол». По тогдашнему закону несовершеннолетних в консисторию увещать не отправляли, а без всяких церемоний вели в приходскую церковь.
Но у Зайцева была не заячья душа. Он не отдал сыновей. Напрасно сухиничский благочинный присылал за ними своего пономаря.
Дело затянулось на несколько лет.
Городовая ратуша (орган сословного городского управления) и Козельский уездный суд донесли в губернское правление, что Осип Зайцев «несмотря ни на какие распоряжения правительства детей своих для присоединения к св. церкви не отпустил и присоединить их не соглашается»[29]. Оба рапорта написаны были в один день — 25 августа 1842 года, и как под копирку, почти слово в слово. Чиновники действовали сообща.
19 октября губернское правление предписало надзирателю Сухиничей (чиновник городской полиции, к тюрьмам отношения не имеет), чтобы он Осипа Зайцева «строгими мерами понудил к отсылке малолетних детей своих к благочинному... священнику Богданову»[30]. Спустя примерно месяц сухиничский надзиратель беседовал со старшим сыном Зайцева — Афанасием. Мальчику было в ту пору около десяти с половиной лет. Пришедший затем к Богданову «сей малолетний, замечательно наставленный отцом, объявил ему, благочинному, что в церковь не пойдет»[31].
Обо всем случившемся Богданов донес в ратушу. Когда же там обсуждали его донесение, явился Зайцев и потребовал прекратить домогательства[32]. Наивный, он полагал, что это зависит от ратуши... Однако этот его поступок примечателен. Это уже открытый протест, контратака.
16 марта 1843 года консистория сообщила в губернское правление, что Богданов «употреблял все меры» для присоединения детей Зайцева — Афанасия и Акима (этому мальчику было тогда около шести лет). Однако Осип Денисович ни в какую — «упорствует» и «не повинуется»[33].
Насильственное присоединение братьев затянулось на целых десять лет, завязло в бумажной канители. Только одну дочь Зайцева — Евдокию — крестили-таки. Девочка родилась в 1842 году и тогда же, в августе, умерла...
С купцом, конечно, было сложно воевать. Он мог прийти в ратушу и стукнуть по столу кулаком. С простыми же людьми дело обстояло проще. Кто не мог сопротивляться, скрепя сердце принимал синодский обряд, кто мог — придумывал разные увертки. Самым распространенным способом была своеобразная эмиграция: крестьянин оформлял паспорт и куда-нибудь уезжал на заработки, там, на чужой стороне, пережидал, когда уляжется буря.
Но буря настигала, даже спустя годы.
Сухиничанин Фома Туманов никуда не поехал.
Непростое было положение в семье Тумановых. Жили под одной крышей, имели детей. Муж ходил в старообрядческую моленную, жена — в приходскую церковь. И каждый упорно держался своего. Вот что Анна Туманова говорила на допросе в 1837 году:
«Я до сего времени исповедую православную веру. Венчана в приходской села Сухинич церкви, на исповеди и у святого причастия бываю ежегодно у приходского священника Григория. Муж мой держится раскольнической секты, ходит в перновичскую старообрядческую часовню. Во время супружества моего я прижила от мужа дочерей Екатерину, Аграфену и Авдотью... Последняя, родившаяся в прошлом 1836 году, крещена... Иаковом Гавриловым, а я молитву отрешительную принимала от приходского священника Григория»[34].
Подвела Анна Герасимовна мужа «под монастырь». Власти стали разбираться, как это младшая дочь Тумановых оказалась в старообрядческой купели. Выяснилось, что по инициативе Фомы Афанасьевича.
Туманов ничего не отрицал.
В 1839 году Комитет российских министров постановил посадить Туманова в тюрьму на две недели. Когда Фома Афанасьевич в 1840-м году их благополучно отсидел, с него взяли подписку, чтобы он, старообрядец, воспитывал детей в духе синодального вероисповедания[35].
Затаскали по консисторским кабинетам, но так ничего и не добились от крестьянки деревни Селиваново Аксиньи Алексеевны Селичкиной (иногда в документах встречается — Семичкиной). Ее вместе с дочерьми Настасьей и Матреной выслали в Калугу на увещание осенью 1842 года. Однако они (и еще три женщины с ними) оттуда, «не давши надлежащих показаний, отлучились»[36]. Сбежали, проще говоря.
Зимой 1844 года Селичкину арестовали и привезли в консисторию вновь. Крестьянка успела к тому времени спрятать одну из дочерей в стародубских слободах и не призналась на допросах где именно. Перейти в синодальное вероисповедание она не согласилась. Отправили ее тогда в губернское правление, пусть там решают, как с ней поступить.
Не дожидаясь, что там надумают, Селичкина уехала домой. Но сколь веревочка не вейся...
В марте 1844 года Аксинья Алексеевна и ее дочь Матрена в который раз оказались за консисторским порогом. Матрена заявила на увещании, что «хотя крещена в православной хотеновской церкви, но обратиться паки к оной по приверженности своей к расколу не согласна»[37]. Мать ее тоже осталась непреклонной.
Старообрядок препроводили в губернское правление. Гражданские власти сделали им «внушение» и взяли расписку, чтобы женщины не мешали домашним, также числящимся в господствующем вероисповедании, «исполнять церковные обряды». Селичкины дали подписку. Было это 17 марта 1844 года. Длившееся почти полтора года преследование закончилось.
В одной деревне с Селичкиными жили муж и жена — Михаил и Лукерья. Когда селивановских старообрядцев стали притеснять, Михаил уехал на заработки. Жена его была беременна и отправить ее на увещание было нельзя. Как только родила Лукерья и вернулся муж, арестовали их обоих — да в консисторию. Было это в феврале 1843 года.
Увещание шло два дня. Епископ Калужский и Боровский Николай (Соколов) лично уговаривал супругов оставить старую веру. Молодые люди отказались, объясняя нежелание просто: нет благословения родителей[38]. Оно тогда чего-то да значило.
18 февраля отец Михаила — Семен Савельевич — подал на имя калужского гражданского губернатора прошение освободить сына и невестку из консистории. «Исповедую с давних времен грекороссийскую по старому обряду веру, которую исполняю по долгу христианскому во всей силе», — писал Семен Савельевич и рассказывал, что его семья подвергается притеснениям со стороны приходского священника Василия Королева, а в консисторию сына с невесткой отправили, ничего не объяснив, не разъяснив, а это нарушение закона[39].
Из консистории Михаила и Лукерью отправили в губернское правление. Как поступило с ними гражданское начальство, сведений нет. Очевидно, так же, как и с Селичкиными — потребовали подписки да отпустили.
Весь 1842 год караулили гражданские и духовные власти хотеновского старообрядца Андрея Осипова. Тоже уехал на заработки — и привет. Мужик он был молодой — только тридцать стукнуло... Наконец, нажали на отца. Тот рассказал, что сын живет в Орле без паспорта у местного купца. Стали искать там. И нашли. Вот какое рвение было! 7 сентября 1843 года Андрей Осипов был «выслан» козельским земским судом в консисторию. На увещании он поведал, что официально крещен в местной хотеновской церкви, в ней же двенадцать лет назад венчался. Но на исповеди и у святого причастия от рождения своего, как в хотеновской, так и в других синодских церквях никогда не бывал.
Предвидя, наверное, что рано или поздно будет схвачен, Осипов то ли в самом деле сходил на исповедь в орловский единоверческий храм, то ли раздобыл каким-то способом свидетельство, что был там на исповеди. Дело в том, что тогдашний закон разрешал упрятать человека в монастырь на несколько месяцев, если он не бывает на исповеди. Документ этот Осипов представил консистории. Но между старой верой и синодальным вероисповеданием все равно пришлось делать выбор. Осипов согласился быть в господствующем вероисповедании. Его отпустили. Хотеновскому священнику Королеву предписали указом, чтобы присоединил Осипова и об исполнении донес.
И Королев донес... что Осипов еще до того, как принесли ему указ, оформил в волостном правлении документы и «удалился 21 октября в Орел»[40].
Ничего не оставалось, как просить помощи у губернского правления. Духовное ведомство советовало гражданским чиновникам предписать Хотеновскому волостному правлению не выдавать паспорта Осипову, пока к Королеву не явится, а Козельскому земскому суду — наблюдать, чтобы Осипов к церкви присоединился.
В начале января 1844 года земский суд Козельского уезда донес, что Андрей Осипов в селе не появился и находится неизвестно где с просроченными документами.
Нашли Осипова опять же в Орле. Его там арестовала городская полиция и препроводила в Козельский земский суд. Оттуда старообрядца повезли в родное село Хотень.
Сохранилось письмо священника Афанасия Королева становому приставу Оглоблину. Батюшка сообщал: «...Присланный ко мне села Хотени крестьянин Андрей Осипов по явке его на место жительства сего февраля 13 дня мною... по чиноположению присоединен к православию»[41]. «Присланный» — это не «пришедший по собственной воле», не «явившийся сам»...
Десять лет минуло, однако помнили в консистории, что в маленьком городке Сухиничи есть еще две души, два крещеных Щепетовым человека, два брата. Много требовалось терпения и расчета, чтобы дождаться удобного времени, терпеливо выждать его. 8 декабря 1852 года консистория обратилась в губернское правление с секретным письмом. Излагая события 1842—1843 годов, духовное ведомство просило организовать высылку братьев Зайцевых, поскольку они достигли совершеннолетия. «Не благоугодно ли будет... чрез кого следует вытребовать их для увещания, и, может быть, они, быв отлучены от своего упорного и своенравного родителя, согласятся присоединиться к православной церкви», — говорилось в письме[42]. Духовная власть была более озабочена исполнением постановления высших светских властей — комитета министров, чем местная гражданская.
В декабре 1853 года в узком коридоре консистории появились два молодых человека. Одному было двадцать лет, другому семнадцать. Но без толку потратили на них время. Афанасий и Аким Зайцевы отказались присоединиться к синодальному вероисповеданию, их отправили в губернское правление.
Светским чиновникам в отличие от духовных большого дела до братьев не нашлось. Правление решило со своей больной головы перевалить Зайцевых на «здоровую» голову Козельского уездного суда и на том поставить точку.
Суд братьев тоже не переубедил. Беда пришла с другой стороны. Совсем негаданно.
В октябре 1854 года был обнародован царский указ, который требовал от купцов-старообрядцев справку о принадлежности к синодальной церкви при объявлении ими гильдейских капиталов. Для тех, кто не желал изменить вере, это означало потерю всех сословных привилегий. Купец Осип Зайцев оказался перед тяжелым выбором. В Сухиничах началось тогда сильное движение за создание единоверческого прихода. Его поддерживали в основном зажиточные горожане, поскольку указ больнее всего бил по ним. Богатые старообрядцы всегда легче шли на компромиссы и не занимали крайних радикальных позиций — им было что терять. Зайцев выбрал единоверие, тем более что, как предполагалось, священник тайно присоединится к старообрядчеству. Да и преследования его детей продолжались.
Третьего декабря 1855 года сухиничский надзиратель препроводил в консисторию дочь Осипа Зайцева Парасковию. Кстати, его семья за минувшие десять с лишним лет увеличилась. Появился на свет еще мальчик Михаил. Подрастала дочь Агриппина. Ей уже было двенадцать лет[43].
12 и 13 декабря одиннадцатилетнюю Парасковию увещали. Сам калужский архиерей уговаривал... И опять разорвать семью не получилось. Парасковия заявила, что вместе с отцом желает стать единоверкой, но к синодальному вероисповеданию присоединяться не будет. Хотя девочка числилась крещенной в приходской церкви и не могла быть переведена в единоверие, в феврале 1856 года консистория вынесла вердикт: «Оставить все это семейство без преследования за раскол и дальнейшей ответственности не подвергать». Осипа Зайцева включили в списки единоверцев.
Прошло несколько лет, единоверие в Сухиничах развалилось (см. об этом в следующем очерке). Среди последних единоверцев, кто желал бы вновь «пребывать на прежних старообрядческих правах», был и Осип Денисович Зайцев[44]. Все вернулось на круги своя... Последнее упоминание о купце, что удалось отыскать, относится к 1865 году[45]. Было тогда Зайцеву около 73 лет.
Ровно тридцать лет спустя, когда в городе сгорела одна из моленных, часть старообрядцев ходатайствовала о разрешении построить новую. Среди поставивших подписи под прошениями встретил я имя Афанасия Осиповича Зайцева. Последнее о нем упоминание попалось в документах 1900 года[46]. Если в ноябре 1842-го было ему десять с половиной лет, то родился Афанасий Осипович где-то в мае 1832-го. Может, второго мая — на Афанасия Великого. В 1900-м ему, стало быть, исполнилось 68. Отца догонял.
Вот и все, что знаю я о Зайцевых.
История этой семьи обращает на себя внимание обоюдным упорством, остротой борьбы. Причем духовным властям достаточно было, чтобы Зайцевы хотя б на бумаге числились, что принадлежат к господствующей церкви, а в семье сухиничского купца вера понималась как одна из основ жизни. Потому Зайцевы в конце концов и выстояли. А консисторские старания были обречены.
Как все заканчивалось
Упорство и запирательства Щепетова только оттягивали расправу. В 1839 году Комитет министров предписал Калужскому гражданскому губернатору арестовать отца Иакова и выслать на родину[47]. Тогда старообрядческих священников хватали повсюду, и судьба Щепетова типична для того времени.
В августе 1839 года губернатор направил Козельскому уездному исправнику секретный приказ: «Предписываю вашему Высокоблагородию по получении сего без всякой огласки взять проживающего в дер. Перновичах старообрядческого священника Якова Гаврилова Щепетова и отправить за благонадежным присмотром в г. Калугу, где приказать сдать его в губернское правление и мне в то же время донести»[48].
Губернатор посчитал необходимым припугнуть исправника: «Малейшее отступление от смысла сего предписания или (чего я, впрочем, не ожидаю) преждевременное оглашение кому-либо оного подвергнет Вас неминуемой ответственности по всей строгости законов»[49]. Это неспроста: исправник мог выгодно продать информацию о намечающемся аресте, если бы захотел.
Приехала в Перновичи полиция, Щепетова нет: гостит у дочери в Белевском уезде. Установили за его возвращением наблюдение.
Исправник донес обо всем губернатору и получил суровое повеление: «Предписываю Вам немедленно принять самые строгие и деятельные меры к отысканию старообрядческого попа Якова Гаврилова Щепетова, не довольствуясь одним только наблюдением за его прибытием... По отысканию отправить за караулом в губернское правление». И опять: «Причем не излишним считаю присовокупить, что ежели Яков Щепетов скроется, то я отнесу это к Вашему безделию. Вы подвергнете себя неминуемой ответственности по всей строгости законов»[50].
Вскоре Яков Гаврилович был взят под стражу и отправлен в Калугу. 22 сентября священника увезли оттуда в Тулу[51]. На этом обрываются все ниточки. Тульский госархив ответил мне на запрос, что не располагает выявленными сведениями о Щепетове.
По тогдашнему законодательству арестованных старообрядческих священников исключали из духовного сословия (обычно они становились потом мещанами). Щепетову могли запретить жить в Калужской и Тульской губерниях (тем более священствовать), и, дав подписку, что припишется в другое сословие, он должен был бы отправиться из Тулы на все четыре стороны. Если, конечно, не умер, пока там с ним разбирались...
Я заканчиваю этот очерк накануне Рождества. В окно видно, как валит сильный снег. Я представляю засыпанные им торговые ряды в Сухиничах, запорошенные городские улицы, белые деревья в сугробах. Снег на голых деревьях, на проводах, на заборах искрится, блестит.
В Сухиничах уже нет старообрядческого прихода. Причин много, в том числе и гонения двадцатого века, выбивавшие лучших прихожан и священников. Я думаю о том, что сейчас старообрядчество прозябает (в старинном смысле этого слова) — как плодородное поле под слоем такого же глубокого снега, как живительное зерно, которое должно быть посеяно, чтобы потом взойти. Путем прозябшего зерна должно пройти старообрядчество. Этим путем следовало бы пройти всему русскому народу. Но этого никогда не будет, покуда он не вернется к тому православию, от которого уклонился в годы Никоновского раскола.
[1] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 23. Л. 56.
[2] ГАКО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 1811. Л. 1 (встречаются указания, что моленная была построена в 1818 году).
[3] ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1310. Л. 1об.
[4] Там же.
[5] ГАКО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 2050. Л. 3.
[6] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 23. Лл. 23–24; Ф. 439. Оп. 1. Д. 1941. Л. 55 об.
[7] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 23. Л. 24.
[8] Аксаков И.С. Письма к родным. М., 1988. С. 177.
[9] ГАКО. Ф.62. Оп.19. Д. 23. Лл. 53–53об. (описание моленной).
[10] ГАКО. Ф.439. Оп.1. Д. 1941. Лл. 59–60.
[11] ГАКО. Ф.439. Оп.1. Д. 1942. Л. 239.
[12] Россия. Законы и постановления. Свод законов. 1832. Т. 14. Часть четвертая, свод уставов благочиния. С. 14.
[13] Там же. С. 12.
[14] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1942. Л. 191 об.
[15] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1941. Л. 163.
[16] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1942. Л.165; то же: Л. 191об.
[17] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1941. Л. 5.
[18] Там же. Л. 63 об.
[19] Там же.
[20] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1942. Л. 199.
[21] Там же. Л. 200.
[22] Там же.
[23] Там же. Л. 228.
[24] Там же. Л. 74.
[25] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1941. Л. 150.
[26] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 76. Лл. 20–20об., Л.24.
[27] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1941. Лл. 165–165об.
[28] Там же. Л. 194; См. также: ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 76. Л. 102 об.
[29] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 76. Л. 24об.
[30] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1941. Л. 207.
[31] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 76. Л. 91.
[32] Там же. Лл. 91–91об.
[33] Там же. Лл. 137–137 об.
[34] ГАКО. Ф. 439. Оп. 1. Д. 1942. Л. 46.
[35] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 23. Л 1–1 об; там же: Лл.121–121об.
[36] ГАКО. Ф. 62. Оп. 9. Д. 76. Л. 114.
[37] Там же. Л. 202об.
[38] ГАКО. Ф. 62. Оп. 19. Д. 23. Л. 159–159 об.
[39] Там же. Лл.162–162 об.
[40] Там же. Л. 189об.
[41] Там же. Л. 194.
[42] ГАКО. Ф. 62. Оп.19. Д. 591. Лл. 1–2.
[43] ГАКО. Ф. 62. Оп.19. Д. 693 (в деле есть сведения о составе семьи Зайцева).
[44] Марков С. Сухиничские единоверцы. Калуга,1885. С. 23.
[45] Там же.
[46] ГАКО. Ф. 62. Оп.6. Д. 1618. Л. 34.
[47] ГАКО. Ф. 62. Оп.19. Д. 23. Л. 1.
[48] Там же. Л. 4.
[49] Там же.
[50] Там же. Л. 6.
[51] Там же. Л. 18.