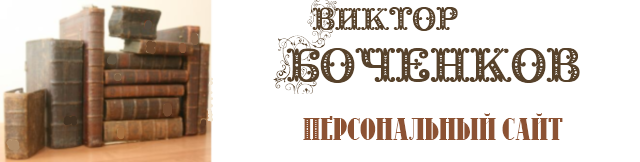Мало слов, да горя реченька
В начале ноября 1929 года в калужской деревне Камельгино убили ударом кола по голове комсомольца Евграфа Соловьева[1].
Очевидцев, конечно, уже не сыскать. Теперешние старожилы плетут пересказы с чужих слов всяк по-своему... Произошло это на клубной вечеринке с танцами под гармонь и предназначался удар будто бы совсем иному человеку. В заварившейся тогда каше не было никакого политического «масла». Уже потом его стали туда подмешивать.
Из обыкновенного «бытового» убийства состряпали очень удачный повод для «чистки» (если говорить языком того времени) «кулацкого элемента». «Ударил-то его, комсомольца, один, а посадили полдеревни», вздохнула, разговаривая со мной, одна камельгинская старушка, вспоминая ту осень 1929-го. Арестовано было около тридцати человек, если не больше. Из них некоторые вообще в клубе не были. Многих осудили ни за что. По принципу того мужика из эзоповской басни: «С журавлями поймал, с журавлями и зарежу».
Евграфа Соловьева хоронили и как положено, то есть на третий день, и как не положено — под траурный марш духового оркестра. Для стариков-старообрядцев это было дикостью: как это, без священника, без отпевания закопать человека?! Неупокоенная душа будет вылезать из могилы, стучаться в окна.
Погода выдалась в день похорон очень зябкая. В небе ползли грязные облака. Они были до того низкими, что казалось, вот-вот зацепятся за верхушки сосен. Камельгинское кладбище располагалось в сосновом бору. Деревья, могилки, восьмиконечные кресты — все перемешано тут. Много народа провожало комсомольца. Говорят, что неплохим был он парнем.
Убийство это в истории деревни — как полосатая межевая веха. Им ознаменовано здесь начало нового времени. Один за одним теперь стали уходить отсюда люди, которые, может, больше чем кто-либо осознавали себя русскими, которые были хранителями национальных — как хозяйственных, так и духовных — традиций. И связь поколений становится чисто физиологической. Да связь ли это тогда?..
Камельгинцы, не признававшие белокриницкого священства, собирались на богослужение в доме крестьянина Ивана Семеновича Шумова. Он построил моленную на собственные деньги и сам же вел в ней службу, какая дозволялась уставом мирянину. Иногда к Шумову приезжал священник из Москвы, потому и прозвали эту моленную в деревне «Московской». Старообрядцы белокриницкого согласия, а их было большинство, молились в доме крестьянина Ефима Филипповича Рубцова. Это было еще в конце девятнадцатого века, когда и слова такого — «клуб» — в деревне не знали. Более ранние сведения о старообрядцах Камельгино отрывочны.
Из камельгинских церковнослужителей, не признававших белокриницкой иерархии, забрали в ОГПУ двоих.
Псаломщик Дмитрий Гаврилович Ермилов, как многие, мастерил и продавал прялки. Ремеслу этому обучил его отец, тоже кустарь. Дмитрий Ермилов родился в 1892 году. С 1914 по 1922 был чернорабочим на железнодорожной станции Тихонова Пустынь и кроме этого служил при церкви.
А обратил Ермилов на себя внимание вот чем. Шло в деревне собрание. Обсуждался вопрос об организации колхоза. Дмитрий Гаврилович спросил кого-то из выступавших: как отличить, кто лодырь, а кто нет, ведь при новой власти почему-то не стало нормой ставить знак равенства между «лодырем» и «беднотой». Бедный потому и бедный, что лодырь, — считал Ермилов. Работать не хочу, руководить — пожалуйста. Кто-то из этой вот «бедноты» припомнил Ермилову его «любознательность»...
Староста «Московской» моленной Григорий Климович Соловьев (распространенная это в деревне фамилия) был мужиком деятельным, и в 1915 году его трудами учредили в деревне старообрядческую общину. По профессии прялочник, он имел до 1914 года собственное дело ГАКО. ФР-202. Оп. 1. Д. 94. Лл. 321–322. пек баранки и продавал. В феврале 1916-го он был избран председателем совета общины.
Арестовали еще камельгинского священника Тимофея Иванова. Он принадлежал к белокриницкому согласию старообрядцев. Зашли за ним — священник уехал в одну из деревень прихода. Она называлась Черная Грязь, сейчас находится в Бабынинском районе Калужской области. Есть на Калужской земле еще одна деревня с таким названием — там родилась мать маршала Георгия Жукова - так то совсем другая деревня.
Священнику оставили повестку, чтобы в назначенный день явился в ОГПУ.
Вернувшись, отец Тимофей повертел листок, пожал плечами. Человек он был тихий, мягкий и закон уважал, поехал в Калугу.
Там, прежде чем идти в ОГПУ, завернул к епископу Калужско-Смоленскому Савве, которому непосредственно подчинялся, рассказал, в чем дело, повестку дал посмотреть.
— Как поступить, владыко?
А епископ, что он мог-то?
— Ступай, а там что Бог даст.
И, когда расставались, как полагается, благословил.
В следственном деле отца Тимофея из архива УФСБ по Калужской области указано, что камельгинский священник родился в 1875 году. А в так называемых опросных листах (документы рода анкеты) архива митрополии Русской Православной старообрядческой Церкви, что на Рогожском кладбище в Москве — иная дата: 3 мая 1871 года. Стиль имеется в виду старый. Расхождения такого рода нередки.
Третье мая — день памяти мучеников Тимофея и Марфы. Они жили в эпоху римского императора Диоклетиана в Фиваиде. Это область в среднем Египте. Тимофей был церковным чтецом. Спустя двадцать дней, как он обвенчался с Марфой, его взяли под стражу язычники. Начиналось время гонений на христиан. Подвергнутый истязаниям, чтец Тимофей был распят вместе с супругою на крестах, поставленных один против другого. Через девять суток души мучеников оставили земные пределы.
Тимофей Чванов был коренным камельгинцем. Как все, крестьянствовал, мастерил прялки. От рукоположения он долго отказывался, считая себя недостойным. Родители были против. Но в конце концов дал согласие. 8 июня 1908 года епископа Калужско-Смоленский Иона (Александров) поставил его во священника к храму Святителя Николы деревни Беклеши Медынского уезда. Сейчас ее нет, на месте этом раскинулся обычный дачный поселок.
Отца Тимофея уважали еще за золотые руки. Он мог и прялку сработать, и тележку смастерить, и по плотницкой части разумел: обтесать бревна, сложить дом, срубить баню. Крестьянских корней человек, из таких же мужиков, как и прихожане. В этом, кстати, одно из решающих отличий старообрядческих священников того времени: они не составляли особого сословия, не пользовались никакими положенными духовенству льготами, они выдвигались паствой, а потому не отрывались от нее почти никогда. Они были друг другу понятны.
Спустя два года отец Тимофей перевелся в родное Камельгино. Здешняя община старообрядцев Белокриницкого согласия образована была также в 1908 году. Храма в деревне тогда не имелось. Старообрядцы по-прежнему собирались на молитву в доме Ефима Рубцова, пришедшем уже в крайнюю ветхость, ходили в соседнее село Фролово, что в шести верстах, и за три версты в деревню Дворцы, обращались в Калугу. Поэтому после указа «Об укреплении начал веротерпимости» (1905 г.) и закона о регистрации общин выхлопотали они разрешение построить храм. Возвели церковь в 1909 году, и тогда в Камельгино образовался самостоятельный приход. Новый храм воздвигнут был в честь Трех Святителей. Потребовался священник. Им и стал отец Тимофей.
В 1913 году к Трехсвятской церкви в Камельгино пристроили колокольню. Раньше верующие извещались о службе звоном в чугунную доску, а 18 мая следующего года в деревне зазвонили настоящие колокола. Их было пять. Перед поднятием отслужили молебен храмовому празднику. Затем отец Тимофей окропил колокола святой водой. Когда их установили, церковный хор пропел: «Благовествуй земле радость велию, хвалите небеса, Божию славу». И в это время священник ударил трижды в один из колоколов. Над деревней застыл торжественный веселый звон. «У многих на глазах появились слезы умиления и вместе с тем неизреченной радостью наполнились сердца присутствующих на торжестве прихожан от сего трогательного зрелища», — писал об этом событии очевидец[2].
Началась первая мировая. Старший сын отца Тимофея — Семен, человек уже самостоятельный, взрослый, ушел на фронт. Он был кавалеристом. В 1917 году у Чванова родилась девочка Клавдия — последний, девятый ребенок в его семье. Потом началась революция. За ней «на буржуа широкою облавой пошел российский пролетариат», как писал поэт Владимир Нарбут, сам ставший впоследствии жертвой этого «пролетариата»...
Маленькой Клавдии очень хотелось увидеть большой губернский город. Как-то отцу Тимофею понадобилось в Калугу по делам. Он взял дочку с собой. Возвращаясь, они ехали по крутому спуску Смоленской улицы.
Навстречу телеге, вверх, шла группа школьников. С ними была женщина, то ли учительница, а может, пионервожатая. Увидев длиннобородого человека в черной рясе, дети, не сговариваясь, разом, будто свора дворовых собак на прохожего, побежали к повозке да плевать в него. Но то было не озорство, не шалость, а сознательное проявление ненависти, воспитанной и выпестованной в их душах целенаправленно. Ведь они ведали, что творят. И с другим проезжавшим так не поступили бы. И знали, что им ничего не будет. Что, может быть, даже похвалят...
Дети, плюющие в священника. Символ нового поколения и новой, приходящей России.
И вот — убийство.
Первый допрос. Показания отца Тимофея занимают в протоколе всего четыре строки:
«Священником состою примерно с 1910 года (имеется в виду в Камельгино. — В.Б.). Среди крестьян своего района никогда никакой антисоветской агитации не вел и вообще распространением каких-либо провокационных слухов не занимался».
И снова — в одиночку.
Другой допрос, зафиксированный на бумаге, был второго декабря. Теперь протокол становится длиннее. На пять строк. «Виновным себя в ведении антисоветской агитации, а также в противодействии колхозному строительству я не признаю, т.к. колхозы это дело не против церкви...» и т.д.
Ермилов и Соловьев тоже не оговорили себя. Но их троих с отцом Тимофеем выставили как организаторов «классовой борьбы в деревне на стороне кулачества». В обвинительном заключении говорилось: «Преследуя однородные цели антисоветской деятельности, тесно связанная с кулачеством вышеуказанная группа церковников особенно активно выявила себя в период организации колхоза и закрытия церкви, т. н. священник Чванов Т.С., учитывая угрозу своему экономическому положению в факте организации колхоза и закрытия церкви, вел агитацию среди верующих, говоря: “Дураки, вас в колхоз загоняют насильно. Там на вас будут, как на лошадях, кататься верхом. Будете всегда голодные. Это барщина, крепостное право. Раньше бары били плетьми, теперь коммунисты будут управлять и также будут драть плетьми, как в старое время”»[3].
Когда следствие близилось к завершению, Иванова перевели в общую камеру. В одиночке он молился, а здесь уже было тяжело. Шум, шуточки, смешки... Избавила от унижений только отправка на Север по этапу после суда (особого совещания), который состоялся 3 февраля 1930 года.
Отца Тимофея и Дмитрия Ермилова приговорили к трем годам лагерей. Григория Соловьева — к ссылке на тот же срок. Но спустя несколько месяцев судебное решение в отношении церковного старосты было пересмотрено. Его освободили от наказания, разрешив свободное проживание на всей территории СССР.
Это только три человека, три судьбы. Десятки камельгинцев попали в эти годы под раскулачивание, были лишены избирательных прав. И семья Чванова — в их числе. У него был изъят дом с надворными постройками, сельскохозяйственный инвентарь (плуг, борона), животные (лошадь, корова, поросенок).
В лагере отец Тимофей перенес цингу. Болезнь до того доходила, что священник мог пальцами вытащить из размякших десен зуб... Чванов сдружился в заключении с одним человеком, который приглашал его к себе пожить, когда закончится срок. Неизвестно, как его звали, старообрядец он или нет, откуда родом. Может, он был откуда-то с юга и предлагал отдохнуть у него, поправить здоровье... Но за две недели до освобождения его задавило на лесоповале бревном. Насмерть.
Отец Тимофей отбыл срок до конца и через три года перед ним открылись лагерные ворота. Седой, сгорбленный, изможденный, вернулся он на родину. Семья его тогда переселилась в соседние Дворцы. Отец Тимофей добрался до дома ночью. Все спали. Он стучать. Родных перепугал — думали ОГПУ за ними явилось...
В 1933 году Тимофей Чванов служил в дворцовской церкви Успения. Трехсвятский храм после его ареста превратили в новый клуб. Колокола сняли, иконы погрузили на подводы и увезли. Кресты спилили. Колокольню укоротили и подвели с храмом под единую крышу. Церковь стала похожа на простой дом.
Известно точно, когда закрыли камельгинский храм — 15 февраля 1930 года. На Сретенье. А 12 февраля был престольный праздник Трех Святителей. Тою же зимой в калужский окружной исполком приехали три женщины жаловаться на местную власть Существовал ведь особый порядок закрытия церквей, установленный, конечно, не в пользу верующих, но все-таки порядок. А тут и им пренебрегли. Чиновник записал на первом подвернувшемся обрывке бумаги фамилии женщин: Рыбакова Н.С., Куцева С.И. Хоботова П.И. Листок не угодил в урну и сохранился в архивных бумагах по сей день. Берегли.
Из Окружного исполкома последовало сообщение прокурору «От группы верующих с. Камельгино Калужского района принята словесная жалоба на закрытие церкви.., снятие колоколов и крестов. Вопрос о закрытии церкви не обсуждался ни в президиуме райисполкома, ни в Окрисполкоме. Мало этого, райадмотделу не было даже известно о снятии колоколов и крестов. Закрытие церкви произведено бригадой. По заявлению верующих, допускались издевательские выходки... Прошу о назначении следствия по данному вопросу и привлечении виновных, допустивших превышение власти, к уголовной ответственности...»[4]
Я не располагаю сведениями, что было дальше. Может, все признали законным. Так или иначе, церковь в Камельгине больше не открывалась.
...В конце 1933-го отец Тимофей простудился и слег. Болела голова. Виски и затылок разрывались. Любое резкое движение, поворот, свет, шум усиливали боль. Который день температура держалась под сорок. Порою случались судороги. А стоило попытаться встать — тут же тошнило. Священник лежал, закрыв глаза, с запрокинутой головой, иногда бредил.
В один день предстала ему икона святителя Николы. Он указал на нее матушке — «Николин образ!». Но родные увидели в этом направлении простую царапину на стене печи. В православном богословии нет однозначного толкования относительно галлюцинаций. Предположить, какой смысл заключало в себе это видение, от Бога ли оно или от лукавого, можно только судя по событиям, которые ему предшествовали, последовали потом. Надо обратить внимание на основные вехи жизни отца Тимофея. Он начинал служить в храме святителя Николы. Три года провел в лагерях и лишился здоровья исключительно за то, что был священником. Явление иконы могло быть знаком, что страдания не бессмысленны, его исповеднический подвиг принят, что священник достоин войти в Царство Небесное... И что страдать остается уже недолго. Нужно крепиться. Скоро — смерть.
После видения иконы отец Тимофей впал в забытье. Прошло несколько дней, может, недель. 31 декабря 1933 года и 1 января священник лежал в беспамятстве. 2 января 1934 года он умер. Умер неслышно, как и жил. «И погас он, словно свеченька / Восковая, предыконная. / Мало слов, да горя реченька, / Горя реченька. Бездонная...»
Спустя примерно три месяца, в апреле, скончалась и супруга отца Тимофея. Ее похоронили рядом с ним на старообрядческом кладбище в сосновом бору близ Камельгина.
Во второй половине 1930-х годов дворцовскую церковь тоже превратили в клуб. Просуществовал он в бывшем храме немного — сгорел дотла. У камельгинского клуба-храма судьба была чуть-чуть иная.
Под старый новый год в 1942-м советские части выдавливали немцев из окрестных сел и деревень. Гитлеровцам не имело смысла держать оборону, но «задаром» они уйти тоже не собирались. 13 января всех, кто жил в оккупированной деревне, от мала до велика, согнали в бывшую церковь и построенное рядом овощехранилище с соломенной крышей. Ворота подперли кольями. Невдалеке установили пулеметы. Что будет, люди поняли без объяснений.
О том, что последовало дальше, рассказал мне калужанин Мина Петрович Рубцов, которого тоже, как и других, загнали в клуб. Ему тогда было шестнадцать. У верующих первая мысль
исповедоваться, говорил он. Друг другу, конечно. Немцы что-то завозились. В деревне жила женщина, которую звали тетей Машей, фамилии Мина Рубцов не знал. Слыла она очень набожной, отличаясь обостренным страхом греха. Уж если не стоит село без праведника, то ее можно было бы за такового почитать. Вдруг эта тетя Маша поворачивается к соседке и говорит во весь голос:
— Фрося, Фрося, прости меня ради Бога... Это я у тебя тогда капусту порубила. Я думала, тебе в колхозе дадут.
У оказавшихся рядом вытянулись лица.
А через узорчатые ледянистые разводы на окнах было видно, как горела деревня. Полыхал соседний с клубом дом. И было как-то странно, что же немцы мешкают. Впрочем, никто не сомневался, что до клуба и овощехранилища тоже дойдет очередь.
Вдруг ни с того ни с сего — грохот, похожий на взрыв. Пол в клубе вздрогнул. Стоявшие возле окон увидели яркий всполох, будто молния пробежала по земле. Потом еще взрыв. Шло время. Ничего не происходило. Несколько человек, рискуя быть расстрелянными, выбрались наружу. Оказалось, что немцы — исчезли. В открытые двери народ повалил валом. В овощехранилище разобрали соломенную крышу, полезли оттуда через дыры — на выходе была пробка.
Вскоре в Камельгино вступили красноармейцы — кто на санях, кто пеший.
После освобождения люди расселились в сараях, по землян кам, уцелевшим надворным постройкам, в клубе-церкви.
Немцы не сожгли людей вот почему. По деревне был дан залп из «Катюши». Это его слышали камельгинцы. Судьба свела Мину Рубцова с человеком, который этот самый выстрел и сделал Пальнул по пустому месту в центре деревни, где и близко ничего не было. О людях, которых собирались сжечь немцы, он и не догадывался. Просто захотелось «фрицев» пугануть. Он сам толком не мог объяснить, зачем выстрелил. А немцы, похоже, решили что это начинается обстрел, а за ним явится пехота и струсили’ отступив раньше, чем намечали. Такова наиболее вероятная «рационалистическая» версия, почему спаслись камельгинцы.
Вели случайность — следствие закономерности, то допустима и связь между покаянием готовящихся погибнуть людей и теми выстрелами по деревне из гвардейского миномета. Приходит на память книга Бытия из Библии, тот эпизод, когда Авраам спрашивает у Бога, уничтожит ли Он Содом, если там среди всех злодеев окажется пятьдесят праведников. «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие». Потом Авраам постепенно снижал цифру: сорок пять, сорок тридцать, двадцать. Ответ оставался одинаков. «Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти» (Быт, гл. 18).
Выходит, это чудо было — чудо людского покаяния, которое разум наш списывает на счастливый случай, на «игру судьбы».
Теперь на месте Трехсвятской церкви расположен обыкновенный дачный домик. Там, где была «Московская» моленная ровное место. Стараниями неравнодушных людей в деревне установлен скромный памятник камельгинцам, не вернувшимся с фронта В Великую Отечественную погиб старший сын отца Тимофея Семен. Он воевал в конной разведке. Была возможность пристроиться писарем — отказался. Лошади были привычнее чем чернила с бумагой. Но давал знать возраст. В одном из писем домой Семен Чванов жаловался, что уже не в его годы скакать на лошадях, но «что поделаешь, надо защищать Родину...»
В Камельгино я приехал первый раз в январе 1997-го. На дороге, что идет от соседних Дворцов через сосновый бор с кладбищем встретился мне мужик в рыжем тулупе с поднятым овчинным воротником. Руки спрятаны в толстые и огромные, как мешки, рукавицы. Мужик правил каурой лошаденкой, стоя на коленях в санях, устланных соломой. Шапка — одно ухо кверху, другое БНИЗ. Шнурок болтается, будто замерзший черный червяк. Борода в инее. И у лошади нижняя губа тоже вся белая. У обоих пар изо рта. Полозья саней — два бруса с квадратным сечением. Точно такие же на картине Сурикова «Боярыня Морозова». Некой дореволюционной стариной на меня повеяло, будто здесь остановилось время и не менялось ничего с начала века.
Через полгода случилось мне вновь побывать в камельгинских окрестностях. Гуляя по кладбищу, отметил одну особенность: если на могильном холмике лежит камень (а здесь многие могилы отмечены просто камнем), то его часто красят синей краской. Будто маленькое облачко прилегло в траве. Среди новых, ухоженных могил с оградами сбились кое-где в кучу, как зеленые овечки старые едва приметные бугорки, почти сровнявшиеся с землей. Я попробовал отыскать могилы Тимофея Чванова и Евграфа Соловьева дворцовского священника Иосифа Дворина, прослужившего в деревне более сорока лет, но безуспешно. Есть ли надписи на их крестах? Да есть ли, целы ли сами кресты? Я даже этого не знал. Я чувствовал себя, блуждая по кладбищу, как герой бунинского «Суходола», искавший могилы предков: «Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей поросших черным мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так темно-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки и дедушки? А Бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко».
[1] Убийство было совершено «грядкой» — так называют жердь, идущую вдоль телеги, или жердь вообще. Подробнее об этом убийстве на документальной основе рассказано: Чернов Н.А. Деревня Камельгино: Документальные хроники. Калуга, 2009.
[2] Церковь. 1914. №30. С. 725.
[3] Цит. по: Чернов Н.А. Указ соч. С. 173–175, 359. На С. 174 здесь помещен фотоснимок не Тимофея Чванова, а калужского священника протоиерея Маркелла Кузнецова. Среди других ошибок — снимок на С. 114, где изображена не камельгинская церковь, а паперть Покровского кафедрального собора в Москве, где среди молящихся стоят архиепископ Иринарх (Парфенов) и епископ Геронтий (Лакомкин), и снимок датируется второй пол. 1940-х гг.
[4] ГАКО. ФР-202. Оп. 1. Д. 94. Лл. 321–322.