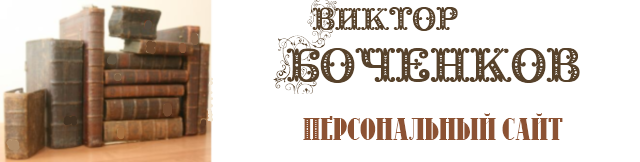Человек рождается на страдание
Книга Иова утверждает: «Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх». Звучит так же категорично, с той же приговоренностью, как короленковское или горьковское: «Человек создан для счастья, как птица для полета». И там и там — полет. Наверное, страдание и счастье просто две стороны одной медали. Искру создают полет и горение, человека — страдание или (еще штамп) способность к познаванию.
Тайна смысла человеческих страданий останется неразрешенной, если разбивать этот «орешек» обычной человеческой логикой. Техника, наука, искусство могут сколь угодно развиваться, являя новые чудеса, шедевры, открывая тайны природы, но все это, как ни крути, завершаемо, предельно, смертно, а потому, в конечном счете, бессмысленно. В духовной сфере — совсем иные законы. Логика тут не всегда проходит.
Задумываясь над смыслом страдания, особенно когда, как Иван Карамазов у Достоевского, не принимаешь мира Божьего, а значит и Бога как Творца его, то всегда ощутишь некий порог, который не в силах переступить. Так бывает всегда, если придерживаешься законов земной логики. Разгадка открывается, наверное, на более совершенном уровне сознания. Но для этого нужна вера и свобода от самого себя.
* * *
Был человек в Жиздринском уезде Калужской губернии, в деревне Волое. Имя его — Никита Семенович Дроздов. Был он справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Родился он по одним сведениям в мае 1870-го, по другим — в 1877 году. Имел хорошее хозяйство. Меньше, чем у библейского Иова, но в анкете арестованного, что заполняли на Дроздова в НКВД, так сказано: «социальное происхождение — из зажиточных крестьян».
По вероисповеданию был Никита Дроздов православным христианином-старообрядцем Белокриницкого согласия, противоокружником. Деревня, где он родился, сейчас в Кировском районе находится. Она издавна была заселена старообрядцами. По некоторым данным, в приходе Кировского села Фоминичи, куда входило и Волое, в 1893 году было около двух с половиной тысяч старообрядцев.
После 1905 года, когда Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости», в деревне стали строить каменный храм. Он был освящен во имя Николы Чудотворца. 27 августа 1912 года епископ Иоасаф Калужский рукоположил к нему настоятелем Никиту Дроздова. В ноябре в Волом прошло собрание общины и отца Никиту избрали председателем ее совета. Церковным старостой был назначен сорокалетний крестьянин Яков Зиновьевич Аверьянов. Жизнь этих двух людей сложилась по поговорке «Где родился, там и пригодился». Для тщеславного человека нет ничего страшней, поскольку славы, как правило, добиваются где-то на стороне, и потом только возвращаются с нею туда, «где родился». Хранить верность малой родине, крохотному лоскутику земли — сложнее. Это как в монастырь уйти. Здесь, кроме великого душевного постоянства, надо уметь видеть чудо Божие в повседневности окружающего мира, в скудной тютчевской природе и ее однообразии, в каждодневных рассветах и закатах, всегда разных для любящего сердца, в ползущей по широкому листу лопуха божьей коровке и гуляющих по улице грязных курах, в желтых монетках цветущей пижмы, гусиной лапчатки, осота и одуванчика, в белой накипи медуницы, сныти, болиголова. В этом узнавании чуда — ключ ко многим тайнам мироздания, к смыслу жизни человеческой.
В 1937 году Якова Аверьянова расстреляли за «антисоветскую агитацию». В то время он был простым колхозным конюхом.
Отец Никита прослужил в Никольском храме почти двадцать лет. Последние семь лет жизни одни невзгоды ему выпадали. Еще в 1929-ом священника осудили на один год лишения свободы за сотрудничество с «кулаками». Дроздов отбывал наказание в Брянской исправительно-трудовой колонии. Потом находился в ссылке. В 1930-ом, когда он еще сидел за колючей проволокой, семья священника не сумела расплатиться с индивидуальным налогом на единоличников. Дом и хозяйство изъяли в счет погашения долга. Жену батюшки за «расхищение имущества» (наверное, попыталась что-то припрятать из вещей) упекли на девять месяцев в кировскую тюрьму. Когда в деревне началось выселение кулаков, Дроздовых тоже собирались депортировать, но вдруг неизвестно почему оставили. Вернувшись, отец Никита поселился в церковной сторожке. У него, как у библейского Иова, не стало теперь ни дома, ни хозяйства Служба в Никольской церкви была возобновлена.
Перемены, произошедшие в стране, священника будто и не касались. Отец Никита не стал ни к чему приспосабливаться, ничего в повседневном своем быте не изменил, дням вел счет по старому стилю. Власть местную презирал. Как-то в начале 1937-го к храму пришли председатель сельсовета и врач («медкомиссия»). Попросили церковь им открыть. Отец Никита ответил, что нет ключей. Велели ему сходить за ними. Дроздов отказался: вам, мол, нужно, сами возьмите у сторожа. Стали отношения выяснять. Священник не сдержался и послал «гостей» подальше, по самому прямому адресу... Он был не святым, а простым человеком.
Когда Дроздова арестовывали, нашли при обыске несколько клочков бумаги с половину обыкновенной тетрадной страницы каждый. Это было стихотворение, написанное по-древнерусски. Вместо «е» — яти, вместо «о» греческая буква омега да крышечка над ней, похожая на насекомое с тремя ножками — письменное «т», вместо «у» или петля о двух концах, тянущихся кверху, или же обычная «у» с «о» впереди. Ну и как положено, после согласных на конце слов — твердые знаки. Внизу стояла приписка, ясно указывавшая на авторство: «Писал сие стихотворение Дроздов К.Н.» То есть сын отца Никиты — Кузьма. Содержание оказалось (для тех времен именно оказалось, а не «показалось») явно «контрреволюционным», и следователь, когда вчитывался, даже подчеркнул красным карандашом несколько первых строк. Стихотворение дало повод для одного из самых «жутких» обвинений против священника: что он «воспитывал детей в религиозном духе». Это расценивалось как «контрреволюционная деятельность». Имелись в виду дети не только самого священника, но вообще деревенские. «Многие ребята ходят ко мне причащаться и исповедоваться, — записал потом следователь за отцом Никитой на допросе, — при этих исповедях было много случаев, что я накладывал на ребят епитимии, давал им делать ежедневно по 5 поклонов за различные, с нашей точки зрения, погрешности, в частности, за танцы и т. д. О том, чтобы не ходить в клуб или на демонстрации, я никогда не говорил». Такой неотъемлемой частью духовной христианской жизни, как епитимия — поклоны с молитвой, назначаемые священником, следствие интересовалось особо. Это выставили как... «издевательство над детьми».
Наверное, прав Иван Карамазов: на нелепостях мир стоит и они слишком нужны на земле. Вот как иначе ни в чем не повинного человека подвести под расстрельный приговор? Только через нечто такое, где вовсе отсутствуют логика и здравый смысл. Одно из выдвинутых против Дроздова обвинений состоит в том, что он... «в 1936 году в массовый разгар обработки льна проводил часто религиозную службу с целью отрыва колхозников-верующих от работы». 11 августа 1937 года тройкой УГБ НКВД Западной области отца Никиту приговорили к высшей мере. 5 мая 1989 года прокуратурой Калужской области он был реабилитирован. Это последние две даты его жизни. Жизни, которая, спустя десятилетия, спрессовавшись до нескольких минут, что потребуются на прочтение этого очерка, каждой своей секундой кричит об уникальности всякой человеческой Личности, о ее праве не идти в ногу с большинством, на духовную свободу.
Пострадали и сыновья Никиты Дроздова — как и дети того библейского Иова. Старший, Анкиндин, рабочий колхоза «Мощный трактор», отсидел пять лет, Макар (род. 1904 или 1907) осужден был через три месяца после вынесения приговора отцу на десять лет лагерей. Кузьму Дроздова тогда обошла беда. На допросе отец занизил его возраст, хотя парня, может, не тронули по другой причине. По данным кировского райвоенкомата, откуда Кузьма Никитич призывался на фронт, родился он в 1920-м. Парень пропал без вести в первые дни войны, в июле 1941-го... Как знать, может, сейчас его неопознанные останки подняты из-под земляного одеяльца каким-нибудь поисковым отрядом и захоронены где- то в братской могиле, отпеты заодно с другими костями каким-нибудь священником. А может, они еще ждут своей могилы...
В годы войны в воловском храме немцы устроили склад боеприпасов. В 1944-м вернувшиеся из эвакуации деревенские жители нашли его разрушенным. Сейчас на месте Никольской церкви стоит просторный дом, разгороженный внутри на отдельные кабинеты. Табличка у двери свидетельствует, что это «Воловский медицинский пункт». Сегодня приход в селе возрождается. На Николу Летнего в 1999 году старообрядческий митрополит Алимпий (Гусев) освятил здесь небольшой новый храм. В доме, который был отведен для него, раньше располагался магазин.
...Наверное, правда, что рукописи не горят и порой бумага бывает долговечней камня. В следственных документах уцелело стихотворение Кузьмы Дроздова. Однако парень не был его автором. Этот духовный стих ходил в рукописях задолго до его рождения. Так, его приводит целиком в пятом томе своей книги «Раскольники и острожники» писатель Федор Ливанов, известный своим цинизмом в «обличении» старообрядчества. Герой одной из его статей, старообрядческий монах Феодосий из Архангельской губернии, читает этот духовный стих, записанный в тетрадку. Действие происходит в 1831 году. Кузьма Дроздов тоже от кого-то услышал его и записал.
Изучая рукопись, я долго не мог понять, что означает слово «вах» в одной из первых строк. Быть может, думал я, это языческий Вакх, который призван олицетворить все темные силы, противостоящие Церкви. Но почему именно он? Помог изданный в Румынии «Месяцеслов» (Бухарест, Арарат, 1996), где был опубликован этот же духовный стих, записанный в одной из липованских деревень, только он был примерно на две трети меньше, чем стих Кузьмы Дроздова. Но как широко был он распространен: его знали в Румынии, в Калужской и Архангельской губерниях! В «Месяцеслове» вместо «вах» — «враг». Все становится на свои места, все логически верно. «Вах» — это слово «враг», воспринятое на слух, ошибочно понятое. Кузьма Дроздов его перенес на бумагу механически, лишь догадываясь, что в слове этом содержится негативный смысл. Этого было для него достаточно. Если бы эту строчку Дроздов сочинил сам, он бы употребил всем понятное «враг». Кажется, строки: «На ка- фодрах вси возвышаются, Верних собори истребляются» — о двадцатом веке. О митинговых речах, о гонениях. Но они тоже не принадлежат Кузьме Дроздову. Вот как звучит это место в варианте Ливанова:
Лжеучители почитаются,
На кафедрах вси возвышаются.
Церкви верных истребляеми,
Сонмищи мерзостей умножаеми.
Подпись в конце рукописи — «Писал сие стихотворение Дроздов К.Н.» — доказывало авторство парня только для НКВД. Слово «писал» означает здесь «записал», «запечатлел на бумаге». А фраза, что лжеучители «на кафодрах», то есть на кафедрах — это ж, конечно, партийные ораторы! Какой следователь поймет, что говорится тут об архиереях-еретиках, занявших епископские кафедры.
Знаете, с каким литературным памятником перекликаются дроздовские строки? «Повесть о нашествии Тохтамыша». Там тоже, со свойственной древности прямолинейностью: «Плачет церковь о чадах церковных, а всего более об убитых, как мать о детях плачущая. О чада церковные, о страстотерпцы избиенные, приявшие насильственную смерть, перенесшие двойную гибель — от огня и меча, от насилия поганых! Церкви стояли, утратившие великолепие и красоту! Где тогда была красота церковная? — ибо прекратилась служба, которой многих благ у Господа просим, прервалась святая литургия, не стало приношения святой просфоры на святом престоле, прекратились молитвы заутренние и вечерние, прервался глас псалмов, по всему городу умолкли песнопения! Увы мне! То грехи наши нам сотворили!»
Кузьма Дроздов не читал этой «Повести...» Записывая духовный стих, он чувствовал в нем что-то близкое — себе самому и времени, ’в которое выпало ему жить. Он переживал то же, что и автор «Повести...» Они духовно были близки, связаны одной нитью, несмотря на разделявшие их века. Поэтому стих Дроздова — живой родничок русского духа — ценность национальная.
*
Грехом нашим на нашу страну
Пустил Господь такову беду.
Облак темный всюду осени,
Небо и воздух мраком потемни,
Солнце в небеси скры своя лучи,
Луна в нощи свет свой помрачи
И звезды все потемнешася,
Дневный свет приложися в мрак.
Тогда вся тварь ужасошася,
Но и звезды вся потрясошася,
Егда адский зверь сия разруши,
Из твердых заклеп нагла искочи.
Сколь ярости испусти свои ад
[На] кафолически[1] красный виноград.
Зело злобный вах[2] тогда возреве,
Кафоликов род мучить повеле,
Святых пастырей скоро истреби,
Увы, жалостно, огнем попали.
Четыре инока[3] уловляхуся,
Злым кознениям уловляхуся.
Всюду вернии заколяеми,
Аки класово[4] пожегаеми.
Тогда вернии горько плакоху,
Зело жалостно к Богу взывакоху:
«Время лютости, Боже, сократи,
От мучительства злаго защити».
Аще помянем благочестия
И пресветлое правоверие,
Когда процветал крин[5] церковный
Зело блестал чин церковный?
Но не можем мы без рыдания
И без скорбного воздыхания...
Ах увы, увы, благочестие,
Увы, древния правоверие,
Что лучи твоя скоро потемни?
Что блистания сия погуби?
Десяторожный зверь сия поглати,
Седьмоглавыи, тако учини —
Весь церковный чин зверски истреби,
Вся предания злобно преврати,
Церкви Божия осквернишася,
Тайнодействия вся лишишася.
Но и пастыри попланилися[6],
Жалом новшества умертвишася.
Зело горестно о сем плачемся,
Увы, бедно вси сокрушаемся.
Что вы, пастыри, посмрадилися,
В еретичестве потопилися?..
Почто в юности не умрохом мы?
Почто в младости не успохом[7] мы?
Избежали бы лютых сих времен –
До суднаго дня как мы доживем?
И мы горце вси выну[8] плачемся,
Преболезненно сокрушаемся:
Вавилонская любодеица,
Оскверненная, радееца,
Предсталяет всем чаши мерзости
Под прикрытием малых сладости[9].
И мы, славнии, тем прельщаемся,
Сластолюбием уловляхуся.
Вы рыдаете же благочестия,
Процветает же все нечестие.
На кафодрах вси возвышаются,
Верних собори истребляются.
И чего еще хочим ожидать?
Посреде мира долго пребывать?
И жизня сия скончивается,
И день судный приближается...
Ужаснись, душе, суда страшнаго
И пришествия всеужаснаго,
Воскрыли, душе, из мрежи[10] прелести,
Ты поринь[11] душе, чашу мерзости
И мирских сует. Удаления
Постигай, душе, убиения.
Постигай ты там верных мал собор
Под прикрытием средь высоких гор.
Не страшись, душе, страха тленнаго,
Но убойся ты огня вечнаго,
Изливай, душе, реки слезныя
Простирай к Богу мольбы теплыя,
Крепко на него всегда уповай,
Во веки веком
Всегда прославляй.
С «липованским вариантом» можно ознакомиться в публикации: Морковкин В.В. Месяцеслов для русских старообрядцев Румынии / / Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы IV международной конференции. М. 1998. С. 21–22. Духовный стих «Грехом нашим...» есть также в книге Т. Рождественского «Памятники старообрядческой поэзии» (М. 1909. С. 49–51). См. также: Ливанов Ф.В. Раскольники и острожники. М., 1875. Т. 5. С. 296–298. Весь тираж книги был сожжен по распоряжению цензурного ведомства. Уцелело лишь несколько экземпляров. Ознакомиться с ней можно в Музее книги РГБ.
[1] То есть на православных. Виноград является символом святости.
[2] Враг.
[3] В других вариантах — «честные иноки». Еще один пример неточного восприятия.
[4] Как колосья.
[5] Лилия или вообще любой полевой цветок.
[6] Попали в плен, пленились.
[7] Не уснули.
[8] Всегда.
[9] Под видом вроде невинных удовольствий.
[10] Из сети.
[11] Отринь.