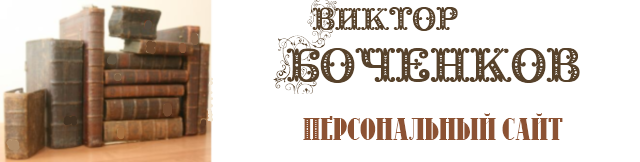Добрый воин
Евстратий в переводе с греческого — «добрый воин».
Имя это дал своему сыну камельгинский крестьянин Иван Хоботов, у которого Рождественским постом 13 декабря 1870 года родился мальчик.
В тот день православная Церковь отмечает память пяти мучеников: Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Поэтому ребенка окрестили в честь одного из них. Святой Евстратий жил в Армении в эпоху римских императоров Диоклетиана и Максимиана, известных кровавыми гонениями на христиан. За веру свою и открытое ее исповедание лишен был воинского звания (службе он отдал 27 лет) и подвергся жестоким истязаниям. В тринадцатый день декабря он был казнен — брошен в раскаленную печь. Но чудо: огонь не повредил ни единого волоса на его теле. Так говорит Житие.
Евстратий Хоботов пошел по стопам отца и тоже занялся крестьянским трудом, а в 1911 году был рукоположен во священника к Никольской церкви села Поречье Малоярославецкого уезда (теперь района). Это был самый красивый старообрядческий храм в Калужской губернии. Он и сейчас цел. Стоит среди села, как обветшалый корабль, выброшенный штормом на берег и давно покинутый командой.
Но мало кто тогда думал об этом шторме... Двадцать лет прослужил в Поречье отец Евстратий. Пятнадцать детей у него было. Семеро умерли во младенчестве. Четверо сыновей священника провоевали всю Великую Отечественную, от начала до конца. Жена имела орден «Мать-героиня» второй степени.
Но мы забегаем вперед...
В 1930-м церковь в селе закрыли. Предлог: мало верующих осталось, всё кулаки, в четырех верстах, в деревне Семкино, стоит еще одна старообрядческая церковь, а больницы нет в радиусе двадцати верст. Ходатайства были «массовыми». Пореченские пионеры тоже собрались на собрание и постановили: «Требовать закрыть церковь и оборудовать в ней больницу». Взрослые думали поправить и хозяйственные дела: на вырученные с продажи церковных ценностей деньги купить трактор и прочую технику для колхоза. Среди бумаг о закрытии храма встретился мне в Государственном архиве Калужской области рисунок от руки: кто-то бегло набросал план церкви, прикинув, где что разместить. В алтаре — операционную, перед ним — палату, в трапезной — кабинет врача, перевязочную и т.д.
Мне рассказывали, что когда дошло до дела, на реке прорвало плотину — и брешь решено было заделать широкими иконами. Приладили их, да сорвало водой... Все ценности, ковры, утварь — изъяли. Рассказывают, один безбожник залез тогда на престол с ногами, штаны снял и опорожнился. Прошло немного времени, бац — рак горла. Так и прозвали его в селе Хрипатым...
Весной 1930 года отец Евстратий был переведен в другой старообрядческий приход, в деревню Горбатово, что недалеко от села Износки (ныне - поселок, районный центр). Священник поселился там на квартире у одного прихожанина. Семья осталась в Поречье. Ему же самому было теперь опасно здесь находиться.
В том же 1930 году возбудили первое дело против Хоботова. В Вяземский оперативный сектор ОГПУ кто-то подкинул «сведения», что горбатовский священник ведет антисоветскую агитацию. Последовал арест. Обвинение гласило, что отец Евстратий, «будучи враждебно настроен к советской власти, систематически занимался антисоветской деятельностью с той целью, чтобы вызвать вражду к существующему строю среди населения и подорвать устои советской власти». Отец Евстратий ни одного обвинения не признал и «существенного по делу ничего не показал».
В конце марта 1931 года дело отправили для внесудебного разбирательства в тройку ОГПУ. Слушалось оно 23 мая. Священника приговорили к трем годам ссылки в Северный край. В конце июня он должен был за собственный счет в трехдневный срок выехать в город Котлас (Архангельская область). Семью его в Поречье раскулачили, отобрали дом. Жить пришлось в бане.
В 1933 году Евстратий Хоботов досрочно освободился от наказания как инвалид.
Епископ Савва (Ананьев) Калужско-Смоленский перевел его к приходу деревни Дворцы, это неподалеку от Камельгина. Здешняя старообрядческая церковь еще действовала. Но одного священника во Дворцах уже арестовали, другой же, Тимофей Чванов, вернувшийся после трехлетнего заключения, умер от менингита.
Через два года у Хоботовых отобрали дом, сарай и амбар. Пришлось переехать на квартиру к одному из прихожан. Было священнику тогда шестьдесят пять лет. Где-то в это время, в середине тридцатых, закрыли и церковь в селе, устроив в ней клуб. Шторм набирал силу.
Чтобы чуть-чуть ощутить атмосферу времени, достаточно полистать подшивки газет. Смотрю калужскую «Коммуну» за 1937 год. Как все прямо, жестко, беспощадно.
«Десятки миллионов трудящихся нашей страны освободились от религиозного дурмана. В основном это результаты освобождения от гнета и эксплуатации, результаты ликвидации эксплуататорских классов, для которых религия была выгодна. Трудящимся нашего социалистического общества религия не нужна».
«В связи с введением новой конституции (1936 год. — В.Б.) церковники пытаются использовать расширение советской демократии, чтобы усилить свое контрреволюционное влияние на отсталых трудящихся. Кое-где церковники требуют открытия церквей, беспрепятственного разрешения крестных ходов и т.д. Церковники ведут разлагающую агитацию, готовясь к предстоящим выборам советских органов (имеются в виду выборы 12 декабря 1937 года в Верховный Совет СССР. — В.Б.)... Враги используют религию, так как всякая религия по своему содержанию враждебна социализму».
«Все, кто еще не порвал с религией, должны понять, что их религиозные предрассудки используют классовые враги, бешено борющиеся против коммунизма, против счастливой, радостной жизни народов нашей страны. Религия является примером вредительской контрреволюционной, подрывной деятельности классового врага. Организации безбожников, все культурно-просветительские и другие учреждения обязаны вести антирелигиозную работу, терпеливо разъясняя верующим вред религии, помогая им порвать с ней».
Это строчки из разных статей. Что тут скажешь? Народ, отказавшийся от веры, отказывается от себя...
После закрытия церкви отец Евстратий служил по домам, когда приглашали крестить ребенка, повенчать. В марте 1937-го на его квартиру нагрянула медкомиссия проверять «санитарные условия». Священник ютился в двух «душных комнатах», одна из которых площадью всего три квадратных метра. В документах проверки отмечен железный бак для крещения, слегка поржавевший где-то и поэтому, по мнению комиссии, «пришедший в антисанитарное состояние». Зацепка, повод придраться.
Закончилась проверка тем, что Хоботова предупредили, если он будет дальше священствовать, загремит под суд.
То было лишь начало...
Дочь священника Клавдия активно участвовала в деревенской самодеятельности. Репетиции проводились в бывшей церкви. Сцена была устроена в алтарной ее части. В деревенский театр Клавдию влекли не актерские задатки, которые, кстати, были, искали выхода — она боялась за отца. Его могли обвинить, дескать, запрещает, и забрать. Об этом случае она сама мне рассказывала, мне довелось с ней встретиться в Москве.
В один день, когда Клавдия собиралась на репетицию, отец попросил:
— Не ходи.
В эту минуту он сидел у печи и расщеплял ножом полено.
— Надо.
Отец рассерженно застучал поленом о кирпичную кладку:
— Не ходи!
Дочь не послушалась. Она считала, что вести себя как все безопасней.
То был один из редких случаев, когда отец выходил из себя.
26 марта 1937 года один из бдительных граждан деревни написал в управление НКВД донос на Хоботова: «Сообщаем вам, что у нас во Дворцах проживает поп Хоботов Евстратии Ив., который нарушает законы. Церковь закрыта, но он проводит службу в отдельных домах, для чего собирается много людей. Это говорит за то, что он имеет производство (автор хотел сказать, что священник принимает от верующих пожертвования, которые, по его представлению, являются незаконным источником дохода. — В.Б.). Мы обращались в райфо, но райфо ничего не предпринимает в части обложения его подоходным». Далее следовал перечень старообрядцев, у которых отец Евстратий «службу проводил».
Донос этот стал поводом для «раскрутки» второго дела. Все по той же 58-й статье, хотя автор обвинял отца Евстратия не в политическом, а в экономическом «преступлении».
Получив паспорт, Клавдия переехала в Москву. Когда она обустроилась в столице, нашла работу, дошел до нее рассказ, что люди, хотевшие уничтожить папу, потребовали, чтобы он собрал верующих и объявил, что Бога нет, что он их обманывал. Хоботов отказался, ответив, что верит в Бога и будет «так же страдать, как страдал Христос».
Вскоре в дом отца Евстратия пришли какие-то люди, один протянул маленькую, в половинку тетрадного листа, бумажку, исписанную ярко-красными чернилами.
На обороте напишите: «Ордер мне предъявлен» — и подпись.
Он взял бумажку в руки. «Народный комиссариат внутренних дел Союза ССР, — прочел он большие черные буквы сверху, — Управление НКВД СССР по Московской области».
И ниже: «Ордер № 21986».
Красные буквы, похожие на языки костра. Красный цвет — цвет пожара и крови...
Ничего контрреволюционного пришедшие не отыскали. «При обыске обнаружено ничего не было, кроме церковных книг, 4 штуки которых уничтожены были на месте», — отчитывались они.
Евстратия Хоботова арестовали.
Обвинение выдвигалось то же, что и в прошлый раз: агитация, антисоветская пропаганда и т.п. Священник не признал вины. На допросе он пояснил, что сельчане, в том числе и те, кого принято стало называть «кулаками», шли к нему с жалобами на тяжелую жизнь, просили пастырского совета. И он как их духовный отец пытался найти для каждого слова утешения. «Я разъяснял, что каждая власть послана от Бога, и мы должны переносить все тяготы и лишения».
— Мы располагаем неопровержимыми данными, что вы среди верующих во время совершения религиозных обрядов вели антисоветскую агитацию, — убеждал следователь.
Отец Евстратий отвечал, что никакой агитацией не занимался. Он объяснял, что говорил людям: все творящееся в стране идет по Святому Писанию. От этого никуда не денешься, так угодно Богу. Поэтому люди должны по-христиански терпеливо переносить все тяготы и смириться. Единоличникам лучше вступить в колхоз, чтобы не платить тяжелых налогов. Все в деснице Божией: и власть, и судьбы стран, и жизнь человеческая...
Наконец дело было закончено. В нем имелись «неопровержимые улики» — показания трех разных свидетелей. Все — против Хоботова. Один человек заявлял, что отец Евстратий высказывался в защиту расстрелянных «врагов народа» — мучениками их называл. Все это перевешивало.
И бумаги на последнего дворцовского священника направились на рассмотрение тройки УНКВД.
25 ноября 1937 года состоялось судебное заседание. Приговор — расстрелять.
Минула неделя с небольшим. 4 декабря в тюремной камере отец Евстратий встретил Введение. Так уж было, видно, суждено
не мог он умереть раньше... А 5 декабря, в день памяти убиенного в орде святого благоверного великого князя Михаила Тверского, дворцовский священник был казнен... Успенская церковь во Дворцах, превращенная в клуб, сгорела в конце 1930 годов по неизвестным причинам дотла.
* * *
Минуло почти 50 год.
14 декабря 1988 года Калужский областной суд реабилитировал Евстратия Хоботова по обоим делам. В действиях священника не оказалось состава преступления. К свержению и подрыву власти он не призывал, а разъяснял верующим положения Святого Писания и его взаимосвязь с событиями в стране. Примерно так говорит официальная формулировка.
Есть и еще одно совпадение в трагической судьбе дворцовского священника. 5 декабря 1937 года было воскресным днем — днем, когда церковь празднует воскресение Христово — событие, являющееся залогом будущей вечной жизни. Кроме того, ровно за год до расстрела, 5 декабря 1936-го, страна приняла новую конституцию, и день этот был объявлен всенародным праздником.
22 мая 2011 года в Никольском старообрядческом храме села Поречье Малоярославецкого района Калужской области впервые за последние семьдесят лет был отслужен молебен великому святому, особо почитаемому на Руси; именно в этот день Церковь отмечает Пренесение его честных мощей из города Мир Ликийских в Бар-град в 1087 году по случаю набега турок на Ликию. Но для богослужения был и другой повод. Исполнилось ровно сто лет со дня освящения храма. На молебен, состоявшийся по инициативе калужской старообрядческой общины и ее настоятеля священника Иоанна Курбацкого, пришли жители села, гости из Боровска, Москвы и Калуги...
Вот примерно так можно было бы начать заметку об этом событии. Информационный повод обозначен, указано на юбилей... Но для меня этот храм в Поречье — особый. До сих пор он полуразрушен. Ржавые решетки на окнах, внутри, сразу как войдешь, часть пола снята и открывается огромная яма подвала, надписи на стенах. Восстановление требует немалых денег. Тем не менее, он величественен и красив. Построенная в 1910 году местными братьями-фабрикантами, Никольская церковь удивила в свое время известного старообрядческого писателя и публициста Федора Мельникова, который оставил о ней восторженный отзыв в одной из книг. Храм в Поречье, писал он, «по своему великолепию может быть поставлен наряду с московскими». Это ощущается и сегодня.
В детстве мать брала меня с собой в деревню, где родилась. Там, в Юхновском районе у сельского кладбища, утонувшего в густой зелени, тоже стояла разрушенная церковь. Невысокая, с приземистой колокольней, с такими же ржавыми решетками, с хилыми березками на каменной крыше, упорно цепляющимися за жизнь. Внутри было гулко, даже страшновато. Помню, как с деревенскими мальчишками мы плавили здесь свинец на костре, пытаясь отлить нечто похожее на пистолет...
Мне теперь думается порой: мы, поколение шестидесятых (да только ли мы?!) — поколение, которое в первых своих детских впечатлениях запомнило навсегда эти заброшенные сельские церкви — символы жестокой и великой эпохи, великой и в созидании, и в разрушении — и с этой памятью проживет до последнего дня. Это мы. А что чувствует вот эта пожилая женщина, жительница Поречья, пришедшая к храму, которая видела в детстве своими глазами, как его закрывали?..
Как-то в 1990-х годах, рассматривая карту Калужской области, я обратил внимание, что на ней имеются участки, где множество сел помечено крестиками, обозначающими церкви. Мне вспомнился разрушенный храм в родном селе матери. Я подумал: что если составить маршрут, сесть на велосипед да объехать несколько таких сел?.. В этом маршруте Поречье было первым селом.
С велосипедом — в тамбур московской электрички и до Ерде- нева. Оттуда до Поречья километров пятнадцать на глаз, судя по карте. А потом — Недельное, Пол Иваново (Никольское) и вновь Недельное (тогда, в 1990-х, здешняя церковь также стояла в руинах), далее — Казариново и Башмаковка, потом по еле заметной лесной стежке я приехал в Дольское и повернул на Суходрев, к обратной электричке. К концу пути лицо и руки загорели, день был жаркий, ни единого облачка.
Потом в архивах удалось выявить сведения о закрытии храма, об отце Евстратии Хоботове. Статья о нем появилась на страницах калужской областной газеты «Весть». Через несколько месяцев я получил письмо из Швейцарии от его потомков, отправленное на адрес редакции, с благодарностью за публикацию. Вскоре познакомился в Москве и с Клавдией Евстратьевной, дочерью священника. И ныне храню самые теплые воспоминания об этой встрече. Ее рассказы об отце позволили дополнить опубликованную в газете статью.
Вряд ли стоит повторять уже написанное, но все же постараемся представить, как освящали этот храм тогда, столетие назад. Это было зимой. Журнал «Церковь» опубликовал небольшую заметку и несколько фотографий: огромный колокол, подготовленный к поднятию на колокольню, крестный ход — ветер развевает ризу священника, идущего впереди, и на заднем фоне снимка — деревья, в ветвях которых заметны птичьи гнезда.
«В среду 2 февраля в два с половиной часа в новом храме началась малая вечерня; в том же часу из старого молитвенного дома вышел по направлению к новому храму крестный ход; по прибытии его на место началось всенощное бдение, в котором участвовало все духовенство, хор певцов, приехавший из Москвы с Рогожского кладбища и местный хор. Громадная масса молящихся, собравшаяся из всех окружных сел и деревень, наполняла новый просторный и великолепно отделанный храм, который является первым в Калужской губернии по своей внешней и внутренней художественной отделке. В четверг 3 февраля в 6 часов утра начался молебен храму с водоосвящением, после чего был торжественно совершен чин освящения храма с обхождением вокруг храма крестным ходом, после которого была соборно совершена божественная литургия с провозглашением многолетия государю императору, архиепископу Московскому Иоанну, епископу Смоленскому Ионе, создателям храма и всем православным христианам. При вновь сооруженном храме построена великолепная колокольня со звоном, который весит более 400 пудов. Как колокольня, так и самый храм сооружены на средства местных благотворителей. Поднятие крестов на храм происходило 20 июля 1910 года. По окончании церковного торжества в доме местных благотворителей братьев Сергеевых, участвовавших в торжестве, была предложена трапеза».
Клавдия Евстратьевна устроилась в Москве на самую «женскую» работу — на стройку. Помню показанные ею фотографии матери — одиноко сидящей пожилой женщины, пережившей гибель мужа и много других тягот, с удивительно светлыми глазами, братьев, помню ее грустное признание: «Отец часто снится, приходит, но никогда со мной не говорит. Потому, наверное, что я курю...» Ей тогда, между тем, минуло семьдесят. Кто возьмется осудить ее, просто не знает, что такое горе.
Хочу поделиться еще одним воспоминанием. 1990 год, корпус Калужского государственного педагогического университета (тогда — института) на улице Ленина. Я, студент, стою в вестибюле, где раздевалка, и читаю журнал «Дружба народов». Не знаю уж, как он оказался у меня в руках. Стихи о разрушенном храме. Прошло двадцать с лишним лет, и я помню только, что автор — женщина, а стихи непереводные. В них говорится об уцелевшем изображении Богородицы на церковной штукатурке, по которому нацарапаны матерные слова. Младенец Христос, которого Она держит, будто бы говорит, что придет в мир вновь и спросит за со- деланное. Героиню стихотворения охватывает чувство вины, хотя она только из любопытства вошла под эти стены. Стихи были пронзительными и запомнились, может, и тем еще, что чем-то напоминали о моем собственном детстве. Однако я не мог воскресить в памяти ни строчки, только общее содержание, впечатление.
Впервые переступив порог Никольского храма в Поречье, поднявшись по его обрушившимся ступеням, я искал глазами похожее изображение Богородицы. С затаенным страхом. Но были только надписи краской на стенах. Люди оставляют свои имена и прозвища. Пишут, словно тем хотят приобщиться к вечности, подсознательно и смутно ощущая, может быть, что она все же существует и ждет впереди...
Мне позвонили в Москву и сказали, что в Поречье будет молебен. Это может стать хорошей традицией — хотя бы раз в год на престольный праздник отслужить в оставленном храме молебен, вспомнив тех, чьими трудами он созидался. Это как маленькая свечечка, от которой все же становится меньше мрака. Я не удержался, бросил все, поехал в Ленинку. Отыскать те стихи. Что я знаю? Автор — женщина, название журнала, год. Но я мог читать старый журнал. Значит, нужно заказать несколько годовых комплектов. Не сразу, но нахожу ту самую стихотворную подборку. «Дружба народов», первый январский номер за 1990 год, Ирина Ратушинская.
Помню брошенный храм под Москвою:
Двери настежь и купол разбит.
И, дитя заслоняя рукою,
Богородица тихо скорбит,
Что у мальчика ножки босые,
А опять впереди холода,
Что так страшно по снегу России —
Навсегда — неизвестно куда —
Отпускать темноглазое чадо,
Чтоб и в этом народе — распять... —
Не бросайте каменья, не надо!
Неужели опять и опять —
За любовь, за спасенье и чудо,
За открытый бестрепетный взгляд —
Здесь найдется российский Иуда,
Повторится российский Пилат?
А у нас, у вошедших, — ни крика,
Ни дыхания — горло свело:
По ее материнскому лику
Процарапаны битым стеклом
Матерщины корявые буквы!
И младенец глядит, как в расстрел:
— Ожидайте, Я скоро приду к вам!
В вашем северном декабре
Обожжет мне лицо, но кровавый
Русский путь Я пройду до конца,
Но спрошу вас — из силы и славы:
Что вы сделали с домом Отца?
И стоим перед ним изваяно,
По подобию сотворены,
И стучит нам в виски, окаянным,
Ощущение общей вины.
Сколько нам на крестах и на плахах –
Сквозь пожар материнский тревог
Очищать от позора и праха
В нас поруганный образ Его?
Сколько нам отмывать эту землю
От насилья и ото лжи?
Внемлешь, Господи?
Если внемлешь,
Дай нам силы, чтоб ей служить.
Вряд ли могли строители Никольского храма знать, что по своему прямому назначению он не прослужит и четверти века. Но вот снова звучат в нем слова молитвы. Сквозняк задувает свечи, их зажигают вновь. Крестный ход выходит из дверей колокольни, поворачивая направо, посолонь, как в дониконовской Руси.
Чувство необъяснимой общей вины остается. И хочется ощутить прощение — то, о котором, не ручаюсь за точность слов, говорит у Достоевского Митя Карамазов: «Мне хочется, чтобы меня кто-то высший простил»... Но, кажется, для этого необходимо если не полностью восстановить храм (кто будет в него ходить? В Поречье старообрядцев теперь почти нет!), то «в нас поруганный» образ Христов очистить «от позора и страха».