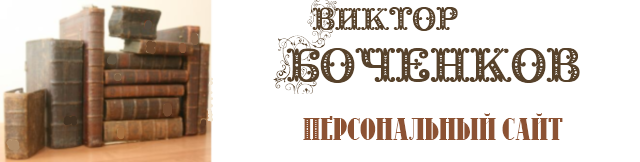Николай Чмырев и его «Раскольничьи мученицы»
Сначала – небольшая преамбула, посвященная противостарообрядческой публицистике[1]. В XVIII–XIX вв. она была призвана выполнять государственный заказ, защищая господствующую церковь, и в качестве основных ее тем, впоследствии воспринятых и художественной литературой, можно выделить:
- Обоснование антигосударственной деятельности старообрядцев (в качестве примера можно указать на романы И.И. Лажечникова «Последний новик» и Н.А. Загоскина «Брынский лес», где старообрядцы показаны как сила, угрожающая стабильности государства).
- Обоснование той мысли, что старообрядчество держится на упрямом невежестве и безграмотности. Например, митрополит Димитрий Ростовский уверял в «Розыске...», что старообрядческие лидеры «в писании божественном неискусни», не способны правильно толковать его и не осознают его силы. Они «весьма простые мужики... иже ни азбуки ведят»[2]. Внутренняя логика развития старообрядчества не принималась во внимание и не исследовалась.
- Отсутствие какого-либо положительного идеала в старообрядчестве, которое не может выступать продолжателем традиций дониконовского православия. «Отчего же такое закоснелое упорство?» – спрашивал, к примеру, А.Н. Муравьев в книге «Раскол, обличаемый своею историею». И отвечал: «От того, что не ищут истины и не за веру подвизаются, а за старые толки отцов...»[3] По мнению А.Н. Муравьева, да и не его одного, старообрядчество держится во многом за счет лиц, которым для достижения корыстных целей выгодно поддерживать «раскольнические заблуждения». С этим напрямую связана другая особенность противостарообрядческой публицистики:
- Акцентирование отрицательно-окрашенных качеств характера и всего того, что может послужить для дискредитации старообрядчества. Публицисты XVII–XIX вв. подчеркивали безнравственность старообрядцев, рассказывали о пьянстве, разврате в их среде, корыстолюбии и т.п. Если давалось портретное описание, как правило, автор подчеркивал в нем отталкивающие черты, что стало характерно и для художественных произведений, изображавших старообрядчество сатирически.
Нужно отметить, что публицистичность как стилевая доминанта порой губила произведения, которые могли бы быть интересными. Так, в 1847 году ныне забытый, но некогда известный благодаря стихотворному сборнику «Досуги сельского жителя» поэт Ф.Н. Слепушкин издал брошюру «Рассказ детям отца, бывшего в расколе перекрещеванцев»[4]. В литературе набирала силу натуральная школа. Автор провел восемь лет среди беспоповцев, своими глазами видел и участвовал в общих богослужениях, хорошо знал старообрядческий быт и нравы. Вместо того, чтобы все это показать в ракурсе натуральной школы, перевести «Рассказ…» в русло очерка с дотошным вниманием к подробностям, с этнографической беспристрастностью, Ф.Н. Слепушкин пронизывает свои воспоминания публицистическими наставлениями, доказывая отсутствие высокого идеала в староверии: «у перекрещиванцев нет чистой веры в Христа, Спасителя нашего». «Рассказ детям отца...» – это не мемуарная проза, не автобиография. В книге нет рефлексии над прошлым. Нет раздумий о личной судьбе, о том жизненном вираже, который совершил поэт, присоединяясь к «раскольникам» и затем порывая с ними. Полагая, что полемическая и дидактическая цели «Рассказа...» достигнуты, Ф.Н. Слепушкин обрывает его. Противостарообрядческая публицистика преследовала практические цели. «Раскройте старообрядцам темные стороны их предводителей, представьте им типы их, не вдаваясь в инсинуации, и – раз потеряв к ним уважение, они пойдут по иной дороге», – указывал литератор В. Попов, автор сборника очерков «Тайны раскольников, старообрядцев, скопцов и других сектаторов»[5].
Средством для раскрытия этих тем было использование комических ситуаций, негативных само- и взаимохарактеристик. Этот прием приобретет широкое применение, когда противостарообрядческая публицистика выйдет за рамки чисто богословских сочинений. Те или иные черты характера старообрядцев сатирически подчеркиваются и утрируются, например, при помощи анекдотических вставок в художественную ткань произведения (например, у «расколоведа» второй половины XVIII в. протоиерея Андрея Журавлева, переиздававшего вплоть до середины девятнадцатого столетия).
Традиция высмеивания старообрядчества, зародившаяся в публицистических и богословских сочинениях, была, как сказано в начале, заимствована художественной литературой. Оно расценивалось как сила, противостоящая государству, и сатира, смех были призваны играть огромную социальную роль, формируя отношение к старообрядчеству. В ХIХ веке в художественной литературе о старообрядчестве возникает направление, альтернативное обличительному. Появляется целый ряд писателей, отказавшихся от инвективного изображения старообрядчества (Н.С. Лесков, П.И. Мельников-Печерский с дилогией «В лесах» и «На горах», Г.А. Мачтет с рассказом «Мы победили», в котором, напротив, уже преследователи старообрядцев изображены в традициях обличительной литературы 1860-х годов, и др.). Вместе с тем «обличительное» направление в художественной литературе, боровшееся со старообрядчеством, оказалось стойким и просуществовало вплоть до начала ХХ века, не дав, однако, заметных художественных произведений. К нему принадлежит, в частности, исторический роман малоизвестного ныне писателя Николая Андреевича Чмырева «Раскольничьи мученицы», вышедший в 1880 году – полуводевильное повествование о любви Федосьи Морозовой и вымышленного героя Федора Чашникова, полностью отданное на произвол авторской фантазии. В этой статье мы хотим остановиться на нем более подробно.
Николай Андреевич Чмырев (1852 – 30 декабря 1886) прожил недолгую жизнь. Он окончил юридический факультет Московского университета. Публиковался в газете «Московский листок». Издал «Конспект всеобщей и русской географии», исторические романы «Развенчанная царевна», «Сытые и голодные», «Атаман волжских разбойников Ермак, князь сибирский», «Александр Невский и Новгородская вольница», «Психопатка»[6]. Умер в Серпухове после непродолжительной болезни, оставив в редакции «Московского листка» рукопись повести «Петр Басманов»[7]. Писателя отпевали 2 января 1887 года в Троицком соборе и похоронили на Всесвятском кладбище Серпухова[8].
В романе «Раскольничьи мученицы» Н.А. Чмырев не отходит от обозначенных нами выше принципов противостарообрядческой публицистики. Цель произведения – дегероизация старообрядческих святых: протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой. Для этого писатель стремится провести мысль о том, что их подвиг вовсе не был подвигом веры, и вся их святость – мнимая. На каждом герое-старообрядце есть какое-то пятно: Аввакум – исповедник, но в то же время лицемер, мученица Морозова – в то же время блудница, а живущая в ее доме старица Меланья – ханжа, желавшая прибрать к рукам морозовские капиталы, задушившая собственного ребенка. Наконец, вымышленный герой, Федор Чашников, сосед Морозовых, – сторонник старого обряда и в то же время прелюбодей и доносчик. Положительный идеал, положительный герой в старообрядчестве невозможны.
События середины XVII века, когда произошла церковная трагедия, расколовшая русский народ, большинство которого отошло от православия, пришедшего на Русь при св. равноапостольном князе Владимире, были временем подвига и испытания веры. Эстетическая категория героического предполагает «в тематическом воплощении… художественное воспроизведение мужественного и самоотверженного поведения индивидуума или масс во имя высоких целей»[9]. Не слишком гладко сказано, но верно. Поставив перед собой публицистическую задачу дегероизировать старообрядческих святых, Н.А. Чмырев был вынужден полностью отказать им в наличии высоких целей. Эти цели нужно было «приземлить». Автор «Раскольничьих мучениц» придумывает «любовный треугольник»: Морозова, ее пожилой муж (а после его смерти – другие претенденты на ее руку и сердце) и молодой сосед Федор Чашников. Персонажами романа движут низменные страсти, интриги, они мелочны и эгоистичны. В этом историческом повествовании нет попытки объективного осмысления событий той драматической эпохи, оно приобретает черты слезливой и сентиментальной мелодрамы или водевиля в прозе. Герои «Раскольничьих мучениц» выражаются языком любовного бульварного романа и ведут себя, как люди не XVII, а XIX века, не «отягощенные» к тому же высокой нравственностью.
Вот, например, одна сцена:
«Федор <…> протянул руки; боярыня, потупившись, положила в его руки свои, он тихо привлек ее к себе и, сев в кресло, посадил ее к себе на колени. Голова боярыни склонялась все ниже, она чувствовала, что не может сопротивляться, чувствовала в нем какую-то силу, власть, которой она бессознательно должна подчиниться. Федор обнял ее и с жаром припал к ее щеке; душегрея на боярыне расстегнулась; сквозь прозрачную сорочку виделась дрожащая белая, полная грудь; в глазах Федора зарябило, пошли какие-то круги…»[10] и т.д.
Все это происходит в то время, когда в доме умирает пожилой муж Морозовой.
Такое вольное поведение не мешает Морозовой содержать при доме целый монастырь, руководит которым игуменья Меланья (реальное историческое лицо). Морозову, конечно, мучает совесть, что муж ее умер, когда она пребывала «в объятиях Федора». В своей страсти она признается Аввакуму. Но тот относится к духовной дочери довольно снисходительно: «А я тебе скажу, что и совсем тут, если хочешь, греха нет. Ты посмотри на себя, ты молода, молодая кровь бродит, плоть немощна, а муж твой был старик, разве он мог быть тебе мужем? <…> Если можешь бороться с любовью, борись!»[11] Морозова чувствует ложь в словах своего духовного отца. Она понимает, что бороться с любовью можно, лишь всецело отдавшись какому-то делу.
Но монастырь в доме Морозовой – не духовное делание, а лишь прихоть, из-за которой Морозова рискует расстаться с Федором. Она сожалеет, что приютила всех этих женщин:
«Приходили минуты, когда она тяготилась этим сборищем черноризок, раскаивалась в том, что собрала их, поддавшись минутному увлечению.
Она знала, что Федору сильно не нравился ее новый образ жизни; от этого, может быть, он и ходить перестал. Да и то сказать, она еще молода, жизни впереди много, всегда можно раскаяться во грехах, позаботиться о спасении души; на это хватит и старости. Если б отняли у нее Федора, тогда другое дело, тогда ей и делать-то больше нечего, а теперь совсем не то, сама своими руками разбила свою жизнь, свое счастие»[12].
Вот еще один пример отношения Морозовой к домашнему монастырю. Здесь уничижительное авторское определение «приживалки» противопоставлено морозовскому «сестры». «Сама она не боялась будущего, на это будущее она давно решилась, но она знала также, что сестры ее, как называла она всех приживалось, поселившихся в ее доме и называвших себя монахинями, сильно побаивались, как говорили они, гонения. Придерживаться раскола они всегда были готовы, но терпеть за раскол не имели ни малейшего желания»[13].
В этом отрывке идет речь о предстоящем постриге Морозовой. Она решает принять его с неохотой, полагая, что возлюбленный ее подвергся длительной ссылке. Характерно отношение Аввакума к этому в интерпретации Н.А. Чмырева: «А по-моему, пусть постригается. Для веры это много значит, а если ее гонению подвергнут, тем паче. Народ глуп, он немного смыслит, а как увидит костры, да на этих кострах не то что нашего брата, а таких лиц как боярыня, тогда он призадумается и увидит, где правая вера»[14].
Причины укрепления народного протеста против искажения православных чинов и последований, духа веры при Никоне Н.А. Чмырев видит в гонениях (как, например, и А.П. Щапов, и одно время П.И. Мельников): «Целыми массами бросились раскольники по селам и деревням, без устали распространяя свое учение». Другая причина тоже традиционна – «народная темнота»: «Народ русский темен, его куда ни толкни, всюду пойдет он, а уж коли пошел, то можно ручаться за успех…»[15]
Морозова желает стоять за веру, но в этом нет ничего героического.
«Теперь она твердо решилась смело следовать древним исповедникам, только она не подозревала того, что между ними и ею была громадная разница, что побуждения к страданиям их были совершенно различны. К желанию исповедовать открыто старую веру и терпеть за это исповедание мучения у нее, незаметно для нее самой (зато очень заметно для Н.А. Чмырева. – В.Б.), примешивалось чувство личной злобы, чувство мести к своим гонителям. За каждую неприятность, за каждое огорчение она старалась отплатить сторицею; крайнее невежество, господствовавшее тогда на Руси, особенно среди женщин, не давало ей, конечно, возможности взглянуть правильно на дело…»[16]
А вот как в изображении Н.А. Чмырева переживает Морозова одно из испытаний – известие о смерти сына:
«– Проклятые, отродье антихристово, убили, замучили мое дитятко, моего Ванюшку, – зарыдала она, уходя в свою келью.
Весь день она просидела неподвижно, голова ее, как видно, сильно работала; несколько морщин прошло по ее белому лбу, глаза горели злобною ненавистью, она ненавидела в это время всех и все. Еще больше страданий прибавляло ей сознание, что к этому несчастному умершему ребенку в спокойные счастливые времена она была частенько несправедлива: словно чужой рос он у нее, почти в забросе. Сначала поглощенная всецело любовью к Федору, потом занятая своим монастырем, она не обращала никакого внимания на ребенка; теперь совесть заговорила в ней, она считала себя виновной перед сыном.
– Добро же, добро же! – шептала она угрозы сквозь стиснутые зубы, – добро же, не я, другие отплатят вам.
А на душе, на сердце боль затихала, делалась тупее, боярыня из человека превратилась в автомата, застывала, делалась равнодушной, только глаза ярко горели у нее»[17].
Что иночество для Морозовой, собственно, ничего не значит, Н.А. Чмырев показывает при помощи придуманного им авантюрного эпизода, когда боярыню везут в кибитке в Боровск, а Федору удается на короткое время отбить ее.
«Трясшаяся от страха при падении, Федосья Прокофьевна при звуке знакомого голоса, так в былое время дорогого ей, встрепенулась, на нее пахнуло былым, прошлым, счастливым временем.
В это мгновенье она забыла все, свое монашество, свои обеты; теперь она видела только своего прежнего, дорогого, любого Федю.
– Федя, соколик мой! – вскрикнула она, обвивая его шею израненными и обвязанными руками…»[18]
Их, однако, разлучают снова. В земляной яме Морозова умирает, сожалея, что принимала иночество, что сама же обрекла себя на смерть, что потеряла сына. Она в изображении Н.А. Чмырева – жертва несчастной любви, а не мученица за веру.
Подводя итог, могу выразить солидарность с мнением анонимного рецензента «Отечественных записок», отмечавшего шаблонность «Раскольничьих мучениц». Автор отклика на этот роман писал:
«Выбрать какую-нибудь эпоху подраматичнее, поинтереснее, поромантичнее, пристегнуть какой-нибудь пикантный дворцовый скандальчик того времени, вывести два-три исторических лица, все это переплести с любовными похождениями какой-нибудь счастливой или несчастливой парочки собственного сочинения, и исторический роман готов. По этому шаблону построены решительно все произведения решительно всех второстепенных и третьестепенных исторических беллетристов наших, и вся разница между ними состоит лишь в большей или меньшей степени понимания характеров исторических лиц и в большей или меньшей ловкости беллетристической обработки. В этих отношениях г. Чмырев плавает довольно мелко, даже по сравнению с гг. Мордовцевым и Сальясом. Беллетристического таланта, даже простой беллетристической сноровки, благодаря которой опытные в этом деле люди придают внешний интерес своим повествованиям, у г. Чмырева решительно не имеется, и его повести сухи и вялы, как какая-нибудь докладная записка. Относительно же понимания изображаемой эпохи и ее деятелей, достаточно сказать, что г. Чмырев представляет, например, протопопа Аввакума – этого неумолимого и непримиримого фанатика – в виде какого-то иезуита-карьериста, для которого идея является не сама себе целью, а удобным средством для обделывания личных делишек. В таком же свете представляет г. Чмырев и других последователей раскола»[19].
«Если г. Чмыреву плохо известна история собственно раскола, <…> то пусть припомнил бы он хотя ту общую черту всех религиозных и общественных движений, что именно первые, по времени, последователи известной идеи всегда и везде отличались самою строгою нравственною чистотою и полным презрением к личным выгодам»[20].
Здесь нужно оговориться, что понятие фанатизма к религиозному сознанию XVII века не может быть отнесено, о чем писал, например, А.М. Панченко в статье «Боярыня Морозова – символ и личность». «Древнерусский человек в отличие от человека просветительской культуры жил и мыслил в рамках религиозного сознания. Он “окормлялся” верой как насущным хлебом. В Древней Руси было сколько угодно еретиков и вероотступников, но не было атеистов, а значит, и фанатизм выглядел иначе. Боярыня Морозова – это характер сильный, но не фанатичный, без тени угрюмства…»[21]. Принцип историзма художественному методу Н.А. Чмырева чужд. Именно это – тогдашнее человеческое религиозное сознание – ему оказалось не под силу.
Несмотря на то, что «Раскольничьи мученицы» не содержат особых художественных высот, роман достоин изучения в нескольких филологических аспектах. Отметим два. Первый – изучение романа в общем контексте развития художественной исторической прозы, затрагивавшей события русской церковной трагедии XVII века (Д.Л. Мордовцев, М.А. Филиппов, епископ Михаил (Семенов), В.А. Бахревский, В.В. Личутин, Г.И. Пакулов и др.). Здесь перечислены авторы разных эпох, с XIX по XXI столетие. Второй связан с особенностями формирования мифов и стереотипов в литературе и общественном сознании, отражавших те или иные представления о старообрядчестве и причинах разделения церкви в XVII веке. Помимо всего прочего творчество таких писателей как Н.А. Чмырев, второстепенных, но создававших определенный литературный фон эпохи, позволяет по-особому взглянуть и оценить произведения писателей более известных, затрагивавших старообрядческую тематику, независимо от прозаического жанра, будь то Д.Л. Мордовцев или П.И. Мельников-Печерский.
[1] Подробнее об этом см. в нашей книге «П.И. Мельников (Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество» (Ржев, 2008).
[2] Розыск о раскольнической брынской вере... М., 1824. С. 93
[3] Муравьев А.Н. Раскол, обличаемый своею историею. СПб., 1854. С. 92.
[4] Слепушкин Ф.Н. Рассказ детям отца, бывшего в расколе перекрещеванцев. СПб., 1847.
[5] Попов В. Тайны раскольников, старообрядцев, скопцов и других сектаторов. СПб., 1874. С. 10.
[6] Русский биографический словарь / Под наблюдением А.А. Половцева. СПб., 1905. Т.22. С. 432–433; Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русская литература / под ред. О.А. Платонова. М., 2004. С. 1052–1053
[7] Скорбный лист // Московский листок. 1886. №361. С. 2.
[8] Похороны Н.А. Чмырева // Московский листок. 1887. №4. С. 2.
[9] Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. Стб. 175.
[10] Чмырев Н.А. Раскольничьи мученицы. М., 1880. С. 30.
[11] Там же. С.58.
[12] Там же. С. 111–112.
[13] Там же. С. 214–215.
[14] Там же. С. 131.
[15] Там же. С. 245–246.
[16] Там же. С. 330.
[17] Там же. С. 332 – 333.
[18] Там же. С. 379.
[19] Отечественные записки. 1880. №8. Новые книги. С. 231. Сальяс – писатель Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир, автор многочисленных исторических произведений.
[20] Там же. С. 232.
[21] Панченко А.М. О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 381.