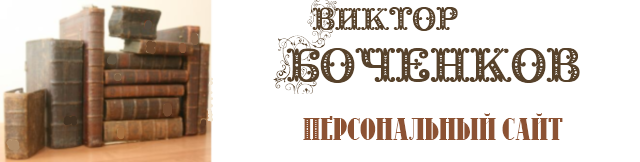1831 год
Василий Никифорович Страхов
Бедность при большой семье сломила отца Василия. Не находя поддержки от духовных властей, он стал искать ее в вине. Лекарство это дало сильный «побочный эффект»...
Родился Василий Страхов в 1780-х годах в семье медынского дьячка. В ноябре 1809 года стал диаконом, в сентябре 1816 — священником. Рукоположили его в село Бокатово Перемышльского уезда.
Двенадцать лет — ни одного проступка. Но детей у отца Василия прибывало, и содержать семейство становилось все тяжелей. Священник замкнулся в кругу собственных проблем. Выхода он не видел, и это вылилось в отчаяние, полнейшее отрицание долга. Страхов освободил себя от всяких обязательств перед церковной системой, к которой принадлежал, освободил от ответственности за приход и пустил жизнь на самотек. Бороться он не мог и не знал, как.
Начались конфликты с причетниками. Итог — наказание монастырем (1828 год). Следствие выявило, что отец Василий допускал многочисленные упущения по своей священнической должности. Ко всему прочему прихожане подали в консисторию бумагу, что не желают иметь отца Василия священником — «он вина пьет много и, бывая в приходе пьяным, ругает дьячков, бьет у прихожан стекла, для молитвования и крещения младенцев, и приобщения больных приходит по многократным уже зовам» и т. п.
С этих пор жизнь Василия Страхова завертелась колесом. Или стала на колеса. Он переменил несколько сел, ему то запрещали, то разрешали служить. В конце концов определили причетником в село Заболотье Перемышльского уезда.
17 декабря 1831 года отец Василий приехал в Калугу за указом о переводе. И тогда же он встретил знакомого мещанина Дегтева, владельца постоялого двора в Ямской слободе и нескольких троек разгонных лошадей[1]. Он как-то приезжал к нему и предлагал бежать. Тогда Страхов не решился...
О Василии Кирилловиче Дегтеве известно крайне мало и в биографии его много неясного. Он имел обширные связи со старообрядцами Стародубья и других регионов. За пособничество к побегам он неоднократно преследовался, был судим. Дегтева подозревали в том, что он зарабатывает деньги, подговаривая и привозя священников к старообрядцам, туда, где есть в них надобность. На допросах и очных ставках Василий Кириллович держался испытанной тактики — все отрицать. Отойди он от нее, мы бы знали о нем больше.
Во второй половине декабря 1831 года Василий Страхов отправился с Дегтевым, его женой и свояком Григорием Варфоломеевым на Стародубке. Ехали на тройке лошадей по «старой мещовской дороге». «И провожал их далее села Росвы верст за 6 сам Василий Дегтев, и потом возвратился обратно в Калугу». Погостив в посаде Лужки сутки у священника Василия Соколова, бежавшего осенью того же года из калужского села Любуцкого, Страхов прибыл в Воронок (это километрах в пяти от Лужков) Дней за пять до Рождества (примерно 20 декабря). Воронковские старообрядцы согласились, чтобы Страхов священствовал у них.
Под Крещение к Страхову привезли его жену с детьми.
Отец Василий прожил бы в Воронке до конца дней, если бы его не арестовали в феврале 1851 года. Местный полицмейстер препроводил его к черниговскому губернатору, а тот распорядился отконвоировать Страхова в Калугу. Василия Никифоровича заключили там в тюремный замок, а после допросов отправили в Оптину пустынь, отбывать епитимью. Там Страхов присоединился к господствующей церкви и вскоре умер.
Дегтевых привлекли к суду. Обвинений они не признали и начисто их отвергли. Очные ставки не дали результатов.
Калужский уездный суд и магистрат освободили Дегтева от следствия и наказания за недостатком улик. Но нашелся другой повод Василия Кирилловича «прижучить». Он-де скрыл, что и раньше привлекался к суду (за пособничество другим священникам в побеге). За это — три дня ареста при полиции со строгим внушением, «чтобы он впредь не чинил подобного действия».
Дело отправилось на рассмотрение в Калужскую палату уголовного суда. Здесь Дегтева передопросили — зачем, мол, о судимостях умолчал? Василий Кириллович ответил, что ничего не скрывал, а почему его слова не записали в протокол, о том ему неизвестно и самому странно.
Палата утвердила решение о прекращении дела Страхова — нет улик и давность. Затем Дегтева ткнули носом в его собственные показания.
— Вы человек грамотный? Читать-писать умеете?
— Да.
— Показания это ваши?
— Мои.
— О прежних ваших судимостях тут ничего не сказано, так?
— Так.
— А вот под показаниями подпись — ваша?
— Моя.
— Зачем же вы подписались под этими показаниями, куда не внесены данные о ваших судимостях? Почему не попросили дополнить? Нет, вы просто смеетесь над нами, упорно запираетесь и пытаетесь водить суд за нос! Вот вам за это три месяца ареста!
Дегтев подал на апелляцию в Сенат.
Этот шаг обращает на себя внимание. По сведениям полиции, Дегтев был человеком небогатым, а чтобы защищаться на сенатском уровне, денежки, однако, надо было иметь. К примеру, адвокат Анатоль Фанарин из «Воскресения» Толстого содрал с Нехлюдова за оформление кассационной жалобы в Сенат тысячу рублей — деньги за всего лишь одну бумажку умопомрачительные. Конечно, там шла речь о более серьезном преступлении, это было другое время, другие люди и другой, куда больший срок наказания. Но тем не менее...
Сенат апелляцию удовлетворил. В 1855 году Калужская палата уголовного суда получила указ освободить Дегтева от наказания. Тем и закончились его мытарства.
Василий Страхов — священник, который нашел в старообрядчестве свое место, но был вырван оттуда полицейскими клещами. И если бы он раскаялся в побеге только ради того, чтобы в удобный момент вновь бежать, можно было бы отнести Страхова к той же самой категории, что Василий Лихачев, Георгий Федоров, Феодор Соловьев (см. далее). Но он не собирался возвращаться в Воронок. Да и нельзя было вернуться туда, где тебя уже арестовывала полиция. В отличие от Иоанна Жукова и Василия Соколова (о них обоих см. ниже) отец Василий не бежал от старообрядцев сам. Страхов — представитель особого типа. Он переходил к старообрядцам и вновь принимал господствующую веру потому, что давили обстоятельства, против которых он идти никак не мог. Или не смел.
Ему хотелось спокойной жизни. Ведь в год ареста священнику шел седьмой десяток, а за спиной стояла очень непростая жизнь. Но, впрочем, не нам судить его...
ГАКО. Ф. 130. Оп. 2. Д. 47.
ГАКО. Ф. 45. Оп. 1. Д. 1231.
Василий Кузьмич Соколов
В конце мая 1834 года у полосатого шлагбаума на заставе города Стародуба остановилась подвода, запряженная тройкой лошадей. Бородатый мужик лет тридцати спрыгнул на землю, подошел к торговавшему тут еврею купить в дорогу теплого вина.
Одернул его за рукав армяка квартальный надзиратель. Он потребовал предъявить паспорт. Мужик вернулся к подводе и вытащил из мешочка с документами широкий бумажный лист с круглой красной печатью, потом аттестат о науках. Он решил, что лучше будет дать бумагу менее значимую, и протянул квартальному аттестат, хотя и понимал, что эта уловка — как трепыхание рыбы, пойманной на удочку, и что он влип капитально. За отсутствие паспорта — Сибирь или тюрьма.
Провести надзирателя, конечно, не удалось.
Он пробежал глазами по крупным черным буквам. Так, закончил Калужскую духовную семинарию, обучался словесности, философии, математике, богословию, латинскому, греческому, еврейскому, немецкому языкам. Хорошо, но...
— А письменный вид на жительство?
Задержанный развел руками: нет у него «пашепорта».
Надзиратель велел следовать за ним в участок и туда же поворачивать оглобли телеги.
Арестованный у заставы человек оказался старообрядческим священником Успенской церкви посада Лужки Василием Кузьмичом Соколовым.
Вот кратенькое «досье» на него. Родился в селе Щелканове Мещовского уезда (ныне Юхновского района) в 1802 или 1803 году. Отец был диаконом местной Христорождественской церкви. В 1826 году Василия Соколова рукоположили во священника в село Любуцкое Калужского уезда (ныне не существует). Женою его была дочь тамошнего престарелого священника Петра Иванова. Женившись, Соколов сменил в Любуцком тестя. У Василия Кузьмича родилось шестеро детей, все девочки. Два последних ребенка появились на свет уже в Лужках. В октябре 1831 года Соколов выхлопотал в духовной консистории паспорт и отпуск для поездки в Киев — поклониться мощам святых угодников Печерских. Уехал и не вернулся.
А произошло в пути с Василием Кузьмичом вот что.
Из Любуцкого добрался он подводой до Калуги вместе с шурином, который потом возвратился обратно. Соколов же отправился дальше попутными подводами. В конце октября или начале ноября добрался он до Лужков. Там остановился в доме местного мещанина Федора Терентьевича Дебольского пообедать и отдохнуть. Если верить рассказу Соколова, то какое-то время спустя к Дебольскому пришли лужковские старообрядцы, человек восемь или десять, и предложили Василию Кузьмичу стать у них батюшкой. Соколов поупрямился, но согласился.
Так в конце 1831 года в лужковской церкви Успения появился новый молоденький священник. Здесь он крестил и венчал, отпевал, вел весь положенный круг богослужений. Вскоре в Любуцкое отправился из Лужков особый человек, чтобы передать семье отца Василия все, что случилось, и привезти матушку с дочурками на Стародубье. В Лужках отвели Соколову и его жене отдельный дом.
1832 год минул благополучно, следующий, 1833, тоже. И наступил 1834 — переломный в жизни Соколова.
Василий Кузьмич сделался обладателем большого состояния — свыше четырех с половиной тысяч рублей. Каким образом взялись они у Соколова — тайна, покрытая мраком. То, что деньги батюшка украл — исключено. В стародубской полиции священника продержали целый месяц, выясняя, не учинил ли он какого преступления — и отправили в калужскую консисторию вместе с состоянием.
Деньги эти и толкнули Соколова на предательство. Василий Кузьмич обеспечил дочерям хорошее приданое и понял, что со старой верой ему больше не по пути.
Бежать с такими деньгами без надежного извозчика опасно. К тому же если нанимать подводу до Калуги в Лужках, то вскоре об этом узнает весь посад. Соколов уселся за стол, взял гусиное перо, открыл чернильницу. Он написал письмо родственнику в Щелканово, диакону Галактиону Максимовичу Страхову, и попросил прислать ему в Лужки нарочную подводу со своим человеком.
28 мая 1834-го — последний день, проведенный Соколовым в Лужках. К Василию Кузьмичу прикатила подвода из Щелканова, запряженная тройкой. Во втором часу ночи извозчик по имени Евсей, по фамилии Петров повез Соколова в Калугу. Все шло как по маслу и, наверное, в этот миг Василий Кузьмич был от души счастлив. Он мечтал, как доберется до Калуги, припрячет в надежном месте капиталец и, обливая старообрядцев грязью, покается владыке, что, дескать, по молодости лет и незнанию жизни соблазнился переменить веру.
Но 29 мая у стародубской заставы Соколов был арестован за отсутствие вида на жительство. Проехал Василий Кузьмич всего километров тридцать пять. План его рухнул.
В полиции, конечно, обыскали подводу Соколова. Обнаружили денег на общую сумму 4675 рублей 60 копеек, пятнадцать ниток мелкого жемчуга, серебряные часы с печаткой, перстень, ложечку, крестик и серьгу. Драгоценности оценены были в 330 рублей.
По требованию полиции в Стародуб приехала жена Соколова с детьми. В уездном центре семейство пробыло месяц, «претерпевая великие нужды». Затем черниговский губернатор предписал отца Василия с супругой отправить в Калугу. 21 июля Соколов был уже в духовной консистории. 30 июля решено было отправить Василия Кузьмича в Мещовский Георгиевский монастырь на трехмесячную епитимию. Настоятеля, иеромонаха Августина, обязали указом доносить не только о поведении беглеца, но еще и о том, «не окажется ли чего-либо сомнительного в его раскаянии».
Выслуживая снисхождение, Соколов попросил присоединить его к официальному вероисповеданию и бросился горячо каяться. Не зря обучался он словесности в семинарии. Красиво умел выражать свои мысли и чаяния Василий Кузьмич, стиль чувствовал и слово. «Я осмелился припасть к святительским стопам Вашего преосвященства, носящего образ Христа-Спасителя, взыскующего и приемлющего заблудших — примите меня, Милостивейший Отец и Архипастырь! — чистосердечно раскаивающегося в заблуждении моем, и присоедините меня паки к сынам и служителям Матери Нашей Святыя Церкви, коей предания свято и нерушимо до кончины моей содержать обещаюсь. Удостойте по отеческом наказании паки принести Всевышнему бескровную жертву и насыщаться трапезы духовной (эта метафора — намек на то, чтобы Соколову разрешили священнослужение и не лишили сана. Оставшись в духовном сословии, отец Василий был бы свободен от уплаты податного налога. — В.Б.), не попустите временного ради в младости падения до гроба стенать под бременем несчастий и оплакивать жребий свой с женой и шестью малолетними дочерьми (и пятью тысячами рублей серебром. — В.Б.), но ободрите унылый от заблуждения дух мой и стесненное горестию сердце явлением Архипастырской и Отеческой своей милости, о чем униженнейше прошу и учинить милостивейшую резолюцию», — писал отец Василий.
В монастыре Соколов вел себя «миролюбиво, трезвенно и весьма благоговейно». Впрочем, у него никогда не было конфликтов с епархиальными властями... Только отбыв положенные три месяца, Василий Кузьмич продолжал оставаться в монастыре. Чиновничья волынка всему виной. Стародубская полиция затянула с высылкой в Калугу ставленой грамоты Соколова, и беглого священника оставили в монастыре бессрочно. Несколько месяцев Василий Кузьмич еще терпел, затем написал вторую бумагу архиерею. Он просил позволить ему священнослужение и уволить из монастыря, поскольку жена и шесть дочерей остались «без крова и пристанища».
Лишь в конце мая 1835 года Соколов со всем семейством смог явиться в калужский кафедральный собор, где протоиерей Семен Зверев с братией присоединили беглеца к официальному православию. А в начале июня, исповедовавшись, Василий Кузьмич был допущен к богослужению в кафедральном соборе. Все деньги ему вернули до полкопейки. Ценные вещи тоже.
В сентябре 1835 года Соколов уже служил в селе Лычине Мещовского уезда (ныне Бабынинский район). Василию Кузьмичу повезло во всех отношениях. И деньги сохранил, и на новое место был определен. В конце 1835 года вступил в действие правительственный указ, согласно которому бежавшие к старообрядцам священники лишались сана и приписывались в другое сословие, кроме духовного. Но практичного Соколова этот указ уже не касался.
*
Летом 1996 года случилось мне посетить Лычино. Я ехал на велосипеде по шоссе, ведущем от Федеральной трассы М3 на Щелканово и далее на Юхнов, в село Извеково и, думая, что проселочной дорогой через Лычино будет короче, свернул туда.
Во дворе одного из домов женщина вешала на веревку белье. Я спросил дорогу. Оказалось, что проехать нельзя: пути на Извеково нет, хотя по карте эти два села соединяет тонкая черная линия, означающая проселочную дорогу. Врут карты.
Я попросил показать мне место, где стояла церковь. Это оказался обрывистый пригорок с крутым склоном недалеко от кладбища. Чем-то он напомнил мне нос обросшего травой корабля с выступающим вперед килем.
Я скинул со спины рюкзак, положил велосипед. Достал фотоаппарат. Не церковь, так хоть пригорок сниму. Когда-то хаживал здесь Василий Кузьмич.
На мгновение я представил себе его. Идет он в сереньком подряснике по тропинке в храм, вид немного пришибленный — покочевал по каталажкам и монастырям, взгляд внимательный, глаза грустные и озабоченные. Надо как-то деньги и дочерей пристроить, надо перед новыми прихожанами себя утвердить... Шагает Василий Кузьмич, думу думает. А где-то перекликаются крестьянские петухи, брешет собака. Ветер гнет к метелкам зеленого конского щавеля макушку тонкой кривой березки. Деревце, как человек, сопротивляется, не хочет нагибаться.
И вот приближается отец Василий к храму, крестится щепотью и быстренько перескакивает церковный порог, точно убегая от размышлений и тягостных дум своих.
Но надо было торопиться. Залезая на велосипед, окинул взглядом кладбище. Оградки, кресты, памятники — все современное. Напрасно искать здесь старые могилы. Иногда, конечно, случается наткнуться на мшистый камень с узорами дореволюционных букв, прочесть надпись на нем, но редко. Впрочем, если Василий Кузьмич и умер тут, в Лычине, могилу его могли отметить простым деревянным крестом да земляным холмиком. Теперь уж от нее ничего не найдешь. Крестик сгнил, холмик сам собой рассыпался. «Нет памяти о прежнем...»
Но тогда, в Лычине, крутя педали по направлению к шоссе, навязался мне на память не Экклезиаст, а другие строки. Тоже, так сказать, о бренности земного бытия. Это последняя строфа стихотворения Николая Огарева, посвященного Тимофею Грановскому:
Но не встрепенутся
На глухом погосте
Наши вековечно
Сложенные кости.
И не знаю, с чего это они привязались. Бывает: прочитал когда-то, и врезалось в память... Чуть ли не до самого шоссе эти строчки повторял.
Где же сложены твои кости, Василий Кузьмич?
ГАКО. Ф.ЗЗ. Оп.2. Д. 382 (Дело о побеге).
ГАКО. Ф.ЗЗ. Оп.1. Д. 4820 (Об определении в Любуцкое).
О бежавших в раскол священниках // Калужские епархиальные ведомости. Прибавления. 1863. №17. С. 300.
Иоанн Ефимович Жуков
Об Иоанне Жукове по всей Калужской епархии катилась недобрая слава. «К пустым тяжбам склонный, впрочем трезв», — эта его характеристика представляется весьма точной. Иоанн Ефимович страдал из-за взрывного, непокладистого характера. По типу темперамента был, скорее всего, ярко выраженным холериком. Вином не увлекался.
Родился Жуков в 1788 году. В священники произведен из студентов богословия Тульским и Белевским епископом Амвросием (Протасовым) в 1808-м. Служить начал в селе Чубарове Боровского уезда, ныне по иронии судьбы и случайному совпадению — Жуковского района. Через четыре года Иоанн Ефимович был определен в должность благочинного. Пост ответственный, требующий энергичности, организаторских способностей, умения принимать самостоятельные решения.
Все складывалось вроде бы благополучно. Молодой батюшка делал хорошую карьеру. Но зимой 1815 года грянул первый Жуковский скандал.
Был Иоанн Ефимович виновен или прав, трудно судить достоверно. Нужны дополнительные документы. Известно только, что Жуков якобы незаконно назначил некоего крестьянина Никиту Щелканова старостой церкви Рябушинской слободы (ныне с. Рябушки под Боровском). Духовная консистория решила, а тогдашний епископ Евгений (Болховитинов) утвердил: Жукова «за соделанный им... подложный выбор и излишние чрез сие как духовному так и гражданскому правительствам затруднение и переписку отстранить от благочиннической должности яко не заслуживающего дальнейшего доверия».
И пошло-поехало.
После того было еще восемь дел на Жукова. Самых разных. Он то не допускал нового благочинного осматривать свой храм, то ссорился с причетниками. Даже дал по физиономии дьячку Илье Сергееву. А однажды (в 1822 году) продал кому-то церковную серебряную дароносицу да еще приказ из духовного правления разорвал. Пошел он на кражу из-за бедности. Детей у Иоанна Ефимовича было несколько, мал мала меньше...
Что только ни делалось, чтобы Жукова поставить на место. Посылали на исправление в монастыри, брали подписку, чтобы «приводил причетников к повиновению более духом кротости и снисхождения». Даже, выражаясь советским языком, влепили строгача». Тщетно. Но сбыв кому-то тот злополучный ковчег для святых даров, Иоанн Ефимович «допрыгался». В 1823 году его временно запретили. Едва ставленую грамоту не отобрали. В конце концов перевели на новое священническое место в село Сопово Козельского уезда.
Но на этом Жуковские приключения не закончились.
Однажды он взял на поручительство некоего Романа Федорова, совершившего какой-то проступок. Что натворил этот отпрыск мелкого боровского купца, неизвестно. Но, находясь под порукой, был «пойман в грабительстве и смертоубийстве». Жукова штрафанули на 25 рублей, чтобы не заступался за кого не следует. Правда, от взыскания этих денег он был освобожден.
Но раз на раз не приходится. Из-за ссор с диаконом спустя примерно три года Жуков лишился-таки 25 целковых и еще был вынужден вернуть своему подчиненному 9 руб. 77 коп., которые присвоил[2]. В 1829 году Иоанн Ефимович и вовсе был отстранен от места: написал на Саввина ложный донос, служить запрещал без оснований.
Жуков не лез за словом в карман и моментально подал на свое духовное начальство жалобу в Синод. Тяжба длилась более года. Все это время Жуков нигде не служил, а следовательно, не имел возможности зарабатывать. Учитывая, что он единственный кормилец большой семьи, долго не у дел и достаточно за свои грехи пострадал прежде, Синод рекомендовал подыскать ему новое место, где прихожане примут. Просьба Жукова оставить его в Сопове была отклонена. Так Иоанн Ефимович переехал в мещовское село Мармыжи. Кроме того, получил последнее предупреждение: еще одна выходка, и ходить тебе, батюшка, два, а то и три года в пономарях.
Нелегко было Жукову в Мармыжах. Этот приход был гораздо беднее соповского. Синодскую милость Иоанн Ефимович расценил как своеобразное наказание рублем. И около полугода продержался на новом месте.
Однажды (в 1831 году) Жуков познакомился с неким мещанином Егоровым. Пожаловался, что всю жизнь невинно от своего начальства духовного страдает. Егоров поверил, посочувствовал, посоветовал перейти к старообрядцам. И лично помог добраться до посада Клинцы, что в Черниговской губернии — на знаменитейшем Стародубке. Чуть позже за Жуковым последовала и его жена Марфа с четырьмя детьми на руках.
Четыре года прослужил Иоанн Ефимович в Клинцовской старообрядческой Троицкой церкви, венчал, крестил, отпевал.
Осенью 1835 года Жуков надумал вдруг податься в Калугу. Что заставило его повернуть жизненный корабль назад, нельзя судить с уверенностью. Думаю, что он и в Клинцах проявил свой норов. На допросе в консистории Жуков говорил, что замучили угрызения совести и открылись глаза на «заблуждения» старообрядцев. Это был способ защиты, и полностью доверять этим словам нельзя... Ясно только, что к возвращению Жукова подтолкнуло недавно обнародованное царское повеление «О прощении всех священников, к своему начальству добровольно от раскольников возвратившихся». Оно позволяло сохранить сан.
В конце октября Жуков вошел в кабинет частного смотрителя Клинцов майора Мацкевича, заявил, что намерен явиться с повинной домой, попросил выдать паспорт ему и семье, чтобы доехать до Калуги. Иначе бы их в дороге арестовали как бродяг. И уже в декабре Жуков находился в мещовском Георгиевском монастыре «для исполнения назначенной ему епитимии».
В феврале 1836 года Жуков написал на имя калужского архиерея нечто вроде объяснительной записки. Он заявил, что из Сопова его вытеснили незаконно, что оставить Мармыжи толкнула жестокая нужда, что там он со своей семьей непременно умер бы с голоду. «От сего-то самого я, непотребный, будучи вне себя и пылая горячею любовью к моему семейству, для поддержания онаго дерзнул переменить образ моей жизни...» И в доказательство раскаяния Жуков честил «старообрядческое общество» направо и налево. Любопытно, что в качестве ругательства он использовал слово «республиканское». (Свежи, видимо, были в сознании русских людей события французской революции 1830 года и польского восстания).
«Исправлялся» Иоанн Ефимович в монастыре чуть более года. Каждые две недели настоятель иеромонах Августин доносил архиерею о поведении беглеца. Оно было идеальным.
В конце февраля 1836 года Жукову разрешили священнослужение. А на Страстную и Светлую седмицы даже отпустили в мещовское село Рессу. У тамошнего священника серьезно заболели глаза — грозила слепота. Жуков подменял его. Это снисхождение преследовало цель посмотреть, как беглец поведет себя «на воле».
Умел все-таки Иоанн Ефимович не только ссориться с людьми, но и располагать их к себе. «Священник Иоанн Ефимов Жуков как в служении, так и в поведении всему нашему приходу понравился», — писали рессовские крестьяне преосвященному, прося поставить беглеца в их село батюшкой. Но епископ решил, что не стоит.
В начале следующего, 1837 года, закончилось жуковское наказание. Документы о дальнейшей судьбе Иоанна Ефимовича скудны.
Жукова направили временно исполнять священническую должность в село Ивано-Дуброво Мосальского уезда. Простили. 14 февраля Иоанн Ефимович куда-то оттуда испарился. И никому ничего не сказал. Дьячок с пономарем донесли про все благочинному, тот — в консисторию.
А уехал Жуков не к старообрядцам на этот раз — на свое новое место службы, в Малоярославецкий уезд, в село Передоль. Только никого не предупредил, что его переводят. Как и в прежних приходах, по которым кидала его судьба, начались неприятности и здесь. В 1840 году отец Иоанн был запрещен за венчание несовершеннолетних. Но это не все. И не самое интересное. В пе редольском приходе жило немало старообрядцев. Всего в одной версте находилась деревушка Кривошеино со старообрядческой моленной. У духовного начальства вызвало большое недовольс тво, что отец Иоанн грубо со старообрядцами разговаривает, обзывает и т. п. (Это бывший-то старообрядческий священник!) Такое поведение Жукова расценили как «препятствующее обращению» старообрядцев к господствующему вероисповеданию. Возбудили на священника даже соответствующее дело, которое, к сожалению, до нас не дошло. Жуков опять был запрещен. Что дальше Бог весть...
Неприкаянность, невозможность и неумение нигде ужиться, нежелание мириться с судьбой, с действительностью сближают Жукова и, например, диакона Игнатия Лукина (см. далее). Любой бунт непременно ведет к очередному тупику. Куда практичней смотрел на жизнь уже нам известный Василий Кузьмич Соколов...
ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 439.
ГАКО. Ф. 79. Оп. 2. Д. 272, 1049, 1059.
О бежавших в раскол священниках // Калужские епархиальные ведомости. Прибавления. 1863. №17. С. 300.
Андрей Дакукин
Служил в Николаевском соборе в Серпейске (ныне Мещовский район). Подробные сведения не выявлены.
О бежавших в раскол священниках // Калужские епархиальные ведомости. Прибавления. 1863. №17. С. 300.
[1] Добромыслов П. Василий Кириллович Дегтев — уловитель беглых попов // Калужское губернские ведомости. 1895. №38, 39. В статье упомянуто, что Страхова увозили пьяного с постоялого двора Дегтева и связанного, спрятав под рогожей на повозке. Следует помнить, что такие «факты» могли выдумывать: а) сами авторы подобных статей, чтобы дискредитировать старообрядцев, б) после ареста сами священники, чтобы оправдать побег. Ведь Получается, что на Страхове нет вины, он не изъявлял желания бежать. Никакого документального подтверждения этому обнаружить не удалось.
[2] Вот какие были цены на рубеже 1820–1830 гг. в Калуге: один пуд (16 кг) пшеничной муки стоил в среднем 2 руб. 50 коп, пуд говяжьего мяса — 3 руб. 15 коп, пуд сена — 28 коп, одна кубическая сажень дров — 6 руб.