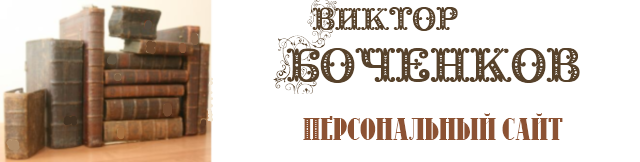От Феофана Прокоповича до М.Н. Загоскина:
Взгляды, которые не менялись полтора века
Художественная проза П.И. Мельникова обратила внимание современников своим уникальным проникновением в обрядово-религиозную и бытовую жизнь старообрядцев. В дилогии «В лесах» и «На горах» писатель создал особый художественный образ старообрядчества (древлеправославия, староверия), во всей его религиозно-бытовой, этнографической реальности. Это заставляет внимательнее всмотреться в культурно-историческую проблематику, связанную с деятельностью П.И. Мельникова — издателя, журналиста, чиновника, — осмыслить его вклад в становление принципов веротерпимости, познакомиться с особенностями его мировоззрения. Иначе можно допустить множество неточностей и формальных ошибок, анализируя творчество писателя. Например, В.Ф. Соколова в своей книге «П.И. Мельников (Андрей Печерский). Очерк жизни и творчества» (1981 г.) говорит о рассказе «Гриша»: «...в центре внимания писателя — идейно-религиозные искания молодого юноши-старообрядца Спасова согласия»[1]. Между тем ни одного героя «Гриши» нельзя причислить к Спасову согласию.
Напротив, в самом начале рассказа четко сказано, что купчиха Гусятникова и Гриша «принадлежали» к Рогожскому кладбищу. Одно это указывает, что они были старообрядцами Белокриницкого согласия. Постоянное использование в разных вариациях матерью Манефой и другими героями дилогии «В лесах» и «На горах» присловья «последние времена» читателю и критику нельзя расценивать как осознание ими духовной несостоятельности старообрядчества, предощущение его близкого упадка и разложения. Эта деталь свидетельствует о другом: П.И. Мельников понимал, насколько живыми оставались в сознании старообрядцев последствия того «эсхатологического шока», который в XVII в. испытала огромная часть населения России, не принявшая церковную реформу. Казалось, что с ней погибает православие, наступают «последние времена», о которых говорили еще апостолы. Конца света не произошло, однако ощущение, что он был близок как современникам протопопа Аввакума, так и старообрядцам XIX в., аккумулировалось в этом устойчивом выражении — «последние времена». Используя его, П.И. Мельников хотел передать особенности мировосприятия героев, но вовсе не акцентировать внимание на кризисе старообрядчества.
Еще один пример неточной трактовки. В финале романа «В лесах» есть эпизод, когда Патап Чапурин бьет кнутом обвенчавшихся без его ведома Василия Борисыча и дочь Парашу. Это порой трактуется как проявление его свирепого нрава. Однако дело в другом: Чапурин лишь исполняет предписанную «Домостроем» обязанность главы семьи наказывать за самовольство. Исполнив «долг», он тут же меняет гнев на милость, потому что такое поведение также является предписанным. В быстром перепаде настроений нет противоречия. Это понимают и окружающие. Жена Чапурина, дочь, новоиспеченный зять не выражают протеста против кнута, поскольку также воспринимают это наказание как необходимое и неизбежное исполнение обязанности, от которой Чапурину нельзя уклониться. Они уверены, что после наказания Чапурин простит им совершенное. Поступки героев помещены в особый домостроевский контекст, без которого мы не сможем понять особенности их поведения.
Исследовательница творчества писателя С.В. Шешунова полагает: «Следуя старинному обычаю, Чапурин наказывает самовольно обвенчавшихся Парашу и Василия Борисыча. Но гнев Патапа Максимыча напускной (эта свадьба — его заветное желание); плетка, которой он бьет молодых, — игрушечная. В старом соблюдении “уставного обряда” просвечивает что-то подобное розыгрышу»[2]. Но в данном эпизоде нет игры, все происходит всерьез. И плетка настоящая, и бьет Чапурин не вполсилы. Это наказание, повторим, — обязанность хозяина дома, которой нельзя пренебрегать. Смысл обряда в сохранении веками сложившейся семейной иерархии и в стремлении передавать традицию последующим поколениям.
Исследователь, не знакомый со старообрядческой спецификой литературных произведений П.И. Мельникова, рискует причислить к старообрядцам купца Корнилу Егорыча — главного героя первой повести писателя «Красильниковы». Между тем о нем сказано только, что этот герой был «русским купцом старого закала»[3]. Эта оговорка еще не указывает на конфессиональную принадлежность. Корнила Егорыч занимал должность городского головы, что для старообрядца тогда было невозможно. Среди любимых его книг автор называет Псалтирь, в то время как у старообрядцев принято говорить «Псалтырь».
Некоторые современные литературоведы полагают, что изучение художественного произведения без учета религиозных аспектов лишено смысла: «Изучая литературные произведения, мы нередко не учитываем веру и религию авторов и героев, т. е. сложившегося у них восприятия мира и поведения по отношению к Высшим ценностям, или всего того, что определяет в обыденных и чрезвычайных обстоятельствах духовную жизнь человека, начиная с изначальных представлений и кончая всем укладом жизни. [...] Не учитывать этого при анализе любого художественного произведения и, конечно же, при рассмотрении произведений русской классики — ненаучно» (В.Ю. Троицкий)[4].
Старообрядческая проблематика, занимающая в произведениях писателя немалое место, до сих пор изучена слабо. Наиболее изученной стороной творчества П.И. Мельникова остается фольклорный аспект. Специфические особенности изображения старообрядчества отходят на второй план. Мы согласны с В.Ф. Соколовой, что в центре внимания автора дилогии «не религиозные проблемы, а вопросы экономического развития страны и исторические судьбы русского народа», точнее — того класса, той категории людей, с которой связан, по мнению писателя, исторический прогресс России (см. об этом далее в главе «Романы в “В лесах” и “На горах”: образ старообрядчества и купечества»). Но ведь писатель стремился показать, что его собственные надежды на этот прогресс связаны со старообрядчеством, вернее, с особым типом купечества, который сложился в нем («не то чтобы купец, не то чтобы мужик», если пользоваться определением самого П.И. Мельникова). Таким образом, изучение особенностей изображения старообрядцев в рассказах и романах представляется весьма интересным и необходимым.
Раскол русской церкви в XVII в. повлек создание особой литературы, которая была призвана доказывать необходимость церковных реформ. Полемика со сторонниками реформ Никона — Алексея Михайловича потребовала от старообрядцев сочинений, которые обосновывали бы их правоту. Это известные «Поморские ответы», «Ответы диакона Александра на Керженце», «Щит веры» и др. Однако образ старообрядчества вплоть до середины XIX в. формировался именно полемической литературой, подчиненной задачам государственной церкви. Этнографические и культурно-исторические исследования делали лишь первые шаги и велись главным образом чиновниками министерства внутренних дел. Творчество П.И. Мельникова испытало сильное влияние противостарообрядческой публицистики как в идеологическом аспекте, так и в плане индивидуального стиля. «Мельников клеветник на раскол», — записал в своем дневнике А.С. Суворин[5]. Как же так? Занимался при МВД делами о старообрядцах, ввел в литературу неповторимые образы поволжских купцов-староверов и скитниц — и «клеветник на раскол»? Ответ кроется в особенностях мировоззрения П.И. Мельникова и, в частности, в особенностях эволюции его взглядов на древлеправославие.
Какие же темы, воспринятые затем и художественной литературой, затрагивала и утверждала противостарообрядческая публицистика, призванная выполнять определенный государственный заказ?
Обоснование антигосударственной деятельности старообрядцев. Многие полемисты указывали на Соловецкое восстание, Хованщину, крестьянские войны под предводительством Степана Разина и Емельяна Пугачева, в которых принимали участие староверы или выдвигались лозунги восстановления дониконовского церковного обряда. Все это рассматривалось как подтверждение противогосударственных настроений в старообрядчестве. Соответствующие ориентировки получала и художественная литература. Не случайно, например, даже в конце XIX в. Д.Л. Мордовцев в повести «За чьи грехи?» сводит вместе в одной из глав Степана Разина и протопопа Аввакума. Первый олицетворяет вооруженное бунтарство, второй — бунтарство духовное, сопротивление без оружия. В исторических документах нет сведений о том, что такая встреча действительно была.
П.И. Мельников в «Отчете о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии» (1854 г.) называл староверие «язвой государственной», предлагая жесткие репрессивные меры к «ее уврачеванию». Вообще, когда в противостарообрядческой публицистике заходит речь об отношениях государства и староверия, нередко используется лексика из области медицины. Так, А.Н. Муравьев, автор известного «Путешествия по святым местам», называл старообрядчество во вступлении к своей книге «Раскол, обличаемый своею историею» «тяжкой болезнью», которую «бдительные пастыри» не могут «уврачевать» уже два столетия.
В дальнейшем в качестве доказательства опасности староверия для российской государственности использовались связи некоторых влиятельных старообрядцев с А.И. Герценом, Н.П. Огаревым, В.И. Кельсиевым. Идеи, провозглашенные еще Симеоном Полоцким, были на щите и в николаевские времена, и позже.
Старообрядчество держится на упрямом невежестве и безграмотности. Митрополит господствующей церкви Димитрий Ростовский (Туптало) уверял в «Розыске о раскольнической брынской вере...», что старообрядческие лидеры «в Писании Божественном неискусни», не способны правильно толковать его и не осознают его силы. Они «весьма простые мужики... иже ни азбуки ведят»[6]. Внутренняя логика развития старообрядчества не принималась во внимание и не исследовалась никем.
Из литераторов, писавших о старообрядчестве в XVIII веке, нужно выделить Феофана Прокоповича. Историк и общественный деятель, теоретик литературы, поэт и драматург, он создал несколько богословско-полемических сочинений против староверия. Старообрядчество для Прокоповича — невежество, «смеха и жалости достойная материя»[7]. Старообрядцы — те же безграмотные невежды, не разбирающиеся в Святом Писании. Они не в состоянии понимать его, даже обучившись писать и читать. «И мнение таковых невежей подобное веема есть легкому мнению детскому: яко же бо малые отроки, а аще селские, бегая близ села своего и видя, что будто небо слилося и совокупилося со землею за недалеким лесом, помышляют, что там то уже и конец мира, и мнятся себе видети вси концы Селенныя, и толко то и света кажется им, где село их...»[8].
Другая важнейшая черта староверия по Прокоповичу — «кичение и чванство, и желание славы учительской». Каждый «бездельник» мнит себя вероучителем, жаждет славы и почета. Кроме неправильного толкования божественных книг такие учителя много выдумывают от себя. Словом, «учители раскола российского... есть тупыи и грубый сумасброды, и единой части христианского исповедания не знающий, но токмо обманом простого народа чреву своему служащии...»[9]
Другие черты, свойственные старообрядцам, их «дурости пособствующие» — «бессовестие, бесстрашие (отсутствие страха Божьего. — В.Б.), злоба на чин учительский, хлеба дарового промысл»[10]. Прокопович судит о староверии не только как церковный полемист и государственный деятель, но еще и как ярый западник, утверждавший протестантско-католические веяния в православии.
Тезис о том, что старообрядчество держится на грубом невежестве, вошел в художественную литературу XVIII в. Он поддерживался и в следующем столетии. Так, например, в 1860 г., отстаивая в духе либеральных веяний свободу совести для старообрядцев, один из авторов журнала «Современная летопись» утверждал: «Раскольник — невежда; его понятие, воззрения, убеждения невежественны; но можно ли это ставить ему в вину, когда он искренне убежден в их истине»[11]. «Мы не думаем, впрочем, что это было бы справедливо относительно всех раскольников, хотя и согласны с автором, что теперь невежество составляет почву расколов», — комментировала сказанное редакция «Современной летописи». Подобный тезис отстаивал не только П.И. Мельников, но и писатели: А.Н. Муравьев, Ф.В. Ливанов, историк А.П. Щапов и др.
В старообрядчестве отсутствует положительный идеал, оно не может выступать продолжателем традиций дониконовского православия. «Отчего же такое закоснелое упорство?» — спрашивал А.Н. Муравьев в книге «Раскол, обличаемый своею историею». И отвечал: «От того, что не ищут истины и не за веру подвизаются, а за старые толки отцов...»[12] По мнению А.Н. Муравьева, старообрядчество держится во многом за счет лиц, которым для достижения корыстных целей выгодно поддерживать «раскольнические заблуждения». С этим напрямую связана другая особенность противостарообрядческой публицистики — указанная ниже.
Акцентирование отрицательных качеств в характере старообрядца, показ всего того, что может послужить дискредитации старообрядчества. Полемисты подчеркивают безнравственность старообрядцев, рассказывают о пьянстве, корыстолюбии, разврате в их среде и т. п. Если в произведении давалось портретное описание, как правило, автор подчеркивал в нем отталкивающие черты, что стало характерно и для художественных произведений, изображавших старообрядчество сатирически.
Публицистичность как стилевая доминанта порой губила произведения, которые могли бы быть интересными. Так, в 1847 г. известный некогда поэт Ф.Н. Слепушкин издал брошюру «Рассказ детям отца, бывшего в расколе перекрещиванцев»[13]. В литературе набирала силу натуральная школа. Автор провел восемь лет среди беспоповцев, участвовал в общих богослужениях, до деталей знал старообрядческий быт и нравы. Работая над «Рассказом...», он отказался от жанра физиологического очерка с дотошным вниманием к подробностям, с этнографической беспристрастностью, а напротив, обратился к публицистике, пронизывая свои воспоминания наставлениями, доказывая отсутствие высокого идеала в староверии: «У перекрещиванцев нет чистой веры в Христа, Спасителя нашего». «Рассказ детям отца...» — это не мемуарная проза, не автобиография. В книге нет раздумий о прошлом, о личной судьбе, о том жизненном вираже, который совершил поэт, присоединяясь к старообрядцам и затем порывая с ними. Полагая, что полемическая и дидактическая цели «Рассказа...» достигнуты, Ф.Н. Слепушкин обрывает его.
Увлеченность противостарообрядческой публицистикой первоначально мешала и П.И. Мельникову. Нередко в «Очерках поповщины»[14] он опирается на непроверенные слухи, стремясь к противостарообрядческому негативу, искажая реальное положение вещей. Публицистика преследовала практические цели. «Раскройте старообрядцам темные стороны их предводителей, представьте им типы их, не вдаваясь в инсинуации, и — раз потеряв к ним уважение, они пойдут по иной дороге», — указывал литератор В. Попов, автор сборника очерков «Тайны раскольников, старообрядцев, скопцов и других сектаторов»[15]. Этому рецепту долго следовала противостарообрядческая публицистика.
Использование комических ситуаций, негативных само- и взаимохарактеристик. Это, конечно, только прием, достаточно характерный, который широко применяется, когда противостарообрядческая публицистика выходит за рамки чисто богословских сочинений. Те или иные черты характера старообрядцев сатирически подчеркиваются и утрируются, например, при помощи анекдотических вставок. Старообрядцы высказывают ю себе или друг о друге, как правило, негативные суждения, в подобном же ключе характеризуется старообрядчество в целом.
В XVIII в. художественная литература лишь изредка касалась старообрядческой тематики и не дала заметных произведений, посвященных старообрядчеству. Это обусловлено спецификой ее основных художественных направлений. Если литература и касается изредка старообрядчества, то при всех различиях между барокко, классицизмом и сентиментализмом она отстаивает привнесенный из богословско-публицистических сочинений тезис о том, что старообрядчество держится на грубом невежестве. Так, вслед за Ф. Прокоповичем А.Д. Кантемир полагал, что причины расколов — «от безмозглых голов мужичьих пахарских». «В России расколы больше от глупости, чем от учения рождаются; суеверие же есть истое невежества порождение», — пишет А.Д. Кантемир в примечаниях к сатире I («На хулящих учение. К уму своему»)[16]. О староверии и расколе он упоминает в сатирах, где рассуждает о просвещении и обличает невежество. Такова, кроме сатиры I, сатира IX («На состояние сего света. К солнцу»). А.Н. Радищев, рассуждая в своем «Путешествии из Петербурга в Москву» о цензуре, также отзывается о старообрядчестве как о дурачестве, предлагая оригинальный по тем временам способ борьбы с ним. «Но для чего не дозволять всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет, скорее сокрушится. [...] Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю; всяк увидит, что глупо и что умно»[17].
Классицизму с его культом государства и гражданских добродетелей было чуждо изображение отдельного человека как личности с его внутренним миром, с ему одному свойственными индивидуальными устремлениями, страстями, желаниями. По замечанию Г.А. Гуковского, литератор-классицист «изображал человека вообще, отвлеченного человека. Он представлял себе человеческую психику не в виде единого и сложного противоречивого потока переживаний, а в виде математической суммы несмешиваемых “способностей” или чувств, каждое из которых может быть рассмотрено в чистом виде»[18]. Характеры в классицизме строились по принципу выделения одной доминирующей черты. Все это затрудняло литературное осмысление староверия. Нужно было создать достаточно конкретный художественный образ, наделенный индивидуальной психологией и взглядом на мир, чтобы он соответствовал реальной действительности и был типически точен. Отвлеченный образ не мог отразить действительной сути такого сложного и противоречивого явления, как староверие.
Нужно учитывать и социальный аспект: литература XVIII в. была преимущественно дворянской, а старообрядчество составляло главным образом купеческое и крестьянское сословие. Дворяне знали этот мир вскользь. Старообрядчество рассматривалось исключительно как следствие невежества и глупости и мало чем могло заинтересовать литератора, погруженного в стихию античной древности.
Античная литература признавалась образцовой. И хотя А.П. Сумароков, а затем Я.Б. Княжнин показали, что сюжет из отечественной истории вполне способен заменить античный, события середины XVII в. не легли в основу трагедийных сюжетов. Церковная реформа не была для литераторов значительным политическим событием, в отличие, например, от воцарения и падения Димитрия Самозванца, эпоха которого отстоит от событий раскола всего на пятьдесят лет. Для литератора XVIII в. раскол — лишь противостояние невежества и разумной государственной воли, то есть слишком рядовой, лишенный особой героики конфликт. Неспроста тема раскола в XVIII в. поднималась главным образом в сатирических произведениях (уже упомянутые сатиры А.Д. Кантемира, «Гимн бороде» М.В. Ломоносова). Исторические сочинения не затрагивали тему раскола. М.М. Херасков закончил «Россиаду» на взятии Казани Иваном Грозным, Н.М. Карамзин (в XIX в.) не довел «Историю государства российского» до эпохи Никона.
Церковная реформа Никона заинтересует русских писателей, когда литература, обращенная к отечественной истории, обратится и к индивидуальному в человеке, когда сформируется русский исторический роман. В XIX в. к событиям церковного раскола будут обращаться Д.Л. Мордовцев («Соловецкое сидение», 1880; «Великий раскол», 1881; «За чьи грехи?»), М.А. Филиппов («Патриарх Никон», 1885), А.С. Суворин («Русские замечательные люди», 1874) и ряд менее известных литераторов.
Однако еще раньше, в первой половине XIX в., внимание к старообрядчеству начинают проявлять романтики (И.И. Лажечников, М.Н. Загоскин).
Романтизм интересуется отечественной историей, стремится к осознанию своей национальной самобытности[19]. Формируется представление о том, что каждый народ имеет собственную судьбу и характер. Уже нельзя было обойти стороной события середины XVII в., в том числе и раскол. Они обретали для писателя значимость, становились достойными интереса. Освещение истории предполагало точность, но не натуралистическое воспроизведение событий, художественный вымысел, основанный на правде предполагаемых характеров и обстоятельств. Человек перестал быть «математической суммой чувств», каждое из которых могло рассматриваться в чистом виде, могло быть доведено до крайнего предела. Человек мыслился как противоречивое единство чувств, побуждений, страстей. Отрицая художественные принципы предыдущих эпох, романтизм предъявил свои, особые требования и к литературному герою.
Старообрядческая тематика поднимается романтиками главным образом в исторических произведениях. Художественное изображение современного писателю старообрядчества начнется, когда будут окончательно сформированы принципы реализма и он станет основным литературным направлением. Заметных произведений, посвященных старообрядчеству непосредственно, целиком, прочно вошедших в литературу, романтизм не дал.
Старообрядчество было показано романтиками как олицетворение злой силы, злой стихии, противостоящей какой-либо сильной личности, созидательной государственной воле. Собственно говоря, романтики изображали не старообрядцев, а воплощали в художественном произведении свои представления о старообрядчестве, и эти представления базировались на принципах, сложившихся в богословско-публицистической литературе ХVI—ХVIII вв. Это можно увидеть на примере исторических романов И.И. Лажечникова («Последний Новик») и М.Н. Загоскина («Брынский лес»).
* * *

И.И. Лажечников, портрет неизвестного художника, 1830-е годы.
В 1833 г. завершилась публикация романа И.И. Лажечникова «Последний Новик». Владимир, главное действующее лицо — сильный, отвергнутый обществом герой-одиночка (типично романтический образ). Обстоятельства его рождения запутанны. Он вынужден жить вдали от родины. В свое время Владимир безуспешно пытался совершить покушение на царя Петра I. Когда начинается война между Швецией и Россией, он, Последний Новик, скитавшийся по Лифляндии, оказывает русской армии неоценимые услуги: служит проводником, передает важные сведения — и все это способствует победе русских. Тем самым Владимир желает загладить вину перед государем и отечеством.
Параллельно с основной сюжетной линией представлена «старая боярская Русь», которая воплощена в мрачном облике одного из клевретов сестры Петра I Софьи, претендовавшей на трон, старообрядческого писателя-апологета Андрея, в миру — родовитого князя Мышецкого.
Андрей Денисов (Мышецкий) - один из основателей Выгорецкой пустыни. Все отмеченные выше каноны противостарообрядческой публицистики отражены в его образе. В ходе событий он призван олицетворять одну из «самых мрачных» сил, противостоящих Петру I. Андрей Денисов сотрудничает со шведами. Он предупреждает баронессу Зегевольд о предстоящем наступлении русской армии, посылает лазутчика в стан лифляндского барона Паткуля — сторонника Петра, убеждает написать «грамотку» шведскому военачальнику Шлиппенбаху, чтобы тот организовал контрнаступление. Цель Андрея Денисова — всеми средствами погубить Последнего Новика, угодив тем самым царевне Софье. Лицемерие, властолюбие, вражда к роду Нарышкиных - все это Андрей Денисов, «наученный искусству красноречия в Киевской академии и всем приемам изощренной политики при дворе коварной Софьи», умеет тщательно маскировать. Его речь сладка и витиевата, он признается в любви к Отечеству, напускает на себя личину святости.
Между тем спутнику Владимира (Последнего Новика), слепцу, Денисов видится уродливым и лукавым старичишкой с рогами (прием окарикатуривания). И.И. Лажечников изображает Денисова отталкивающе, сочетая его религиозный фанатизм с дурными манерами («Старик икнул тут, пустил густую струю воздуха прямо на высокомерную обладательницу Гельмета, перекрестил три раза рот...»). «Один из коварнейших людей того времени», Денисов не гнушается услугами людей нерусской национальности (которых старообрядец, казалось бы, должен гнушаться) и с сомнительным прошлым — таков монах Авраам, иудей, принявший католичество, обокравший монастырь. Авраам «пришел доканчивать курс лукавства сатанинского в звании чернеца поморского Выгорецкого скита и переводчика при Андрее Денисове».
Денисов — олицетворение антигосударственной сущности староверия. «Из могилы подам голос, — восклицает этот «ересиарх» (еще одна авторская характеристика И.И. Лажечникова), — что я был враг Нарышкиным и друг Милославским не словом, а делом; что я в царстве Петра основал свое царство, враждебное ему более свейского; что эта вражда к нему и роду его не умерла со мною и с моим народом; что я засеял ее глубоко от моря Ледовитого до Хвалынского, от Сибири до Литвы, не на одно, на несколько десятков поколений»[20].
У старообрядцев нет иной цели, кроме свержения императора Петра. Их фанатизм и глупость И.И. Лажечников преподносит и высмеивает с помощью разных комических ситуаций. Такова, например, беседа Денисова и баронессы Зегевольд, когда переводчик Авраам ловко перетолковывает на свой лад каждую реплику. И кичливый Денисов, который не удосужился хотя бы поклоном поприветствовать баронессу в ее же доме, легко остается в дураках. Читатель понимает, насколько ничтожны его напускная важность, его самомнение, его статус вождя.
Нелепость вероучения, которое проповедует Денисов, показана на примере жителей деревни Нос. В ожидании мнимого пришествия Христа они заранее попрятались в специально приготовленные гробы. Крестьяне приняли Владимира за явившегося Спасителя, некоторые стали молить его об отпущении грехов, другие в страхе скре жетали зубами. А Последний Новик «едва не захохотал» над ними. Владимир убедил носовцев, что Андрей Денисов и подкупленный им их уставщик[21] Антип обманули их из корысти, убедив в близости Второго пришествия.
Долго жить в деревне Нос Последний Новик не смог. Его пылкая душа не приняла стесненной жизни и невежества. Его уход объясняется автором в духе «Розыска о раскольнической брынской вере...», публицистично: «...любовь к Богу, исчисленная на лестовках[22] и земных поклонах; вера, заключенная в двухперстном знамении, в осьмиконечном кресте, в поклонении старым иконам; добродетель в ужасном посте, в ожесточении против всякой новизны, как бы она ни была полезна, в унизительном презрении к ближнему, не согласному с их мнениями, — вот дух и учение, которым водились общества раскольников!..»[23] Как уже говорилось, Димитрий Ростовский и другие официальные публицисты ограничивали сущность староверия лишь слепым преклонением перед старинными предметами культа и фанатичным аскетизмом, доводя все это до крайности.
В конце романа Андрей Денисов погибает от руки Последнего Новика, что является откровенным пренебрежением исторической правдой.
М.Н. Загоскин, в отличие от И.И. Лажечникова, пытался в своих романах реабилитировать допетровское боярство. Однако это не повлияло на изображение старообрядчества. Старообрядцы выведены им в романе «Брынский лес» (1845). Его действие происходит в годы правления царевны Софьи, в дни стрелецкого бунта. Молодой дворянин Левшин встречает на постоялом дворе девушку, в которую влюбляется. Все дальнейшее содержание сводится к тому, как герой романа, которого автор наделил всевозможными добродетелями, добивается своей возлюбленной. Известный спор о вере в Грановитой палате и роль старообрядцев в Стрелецком бунте показаны в духе официальной противостарообрядческой полемической литературы. «В историко-познавательном отношении роман Загоскина не представляет никакого интереса, — категорично и не без оснований отмечает С.М. Петров. — Не сумел автор передать черты того времени и при помощи своего вымысла. Своей завязкой “Брынский лес” напоминал сентиментальные романы и повести»[24].
Современники довольно резко отзывались о романе М.Н. Загоскина. Его обвиняли в подражании самому себе, в бесцветности новой книги, в излишней сентиментальности и т. п. Рецензент «Отечественных записок» писал: «У г. Загоскина был, однако ж, предмет интересный как сам по себе, так еще и по своему малому ходу в романах. Это раскольники. Мы думали, принявшись за чтение “Брынского леса”, что автор раскроет нам хоть сколько-нибудь религиозное, гражданское и семейное направление староверов, — и вместо этого нашли несколько комических сцен и разговоров, выказывающих смешную, мужицкую сторону раскольничества. Самый ересиарх раскольников, Андрей Поморянин, забавно-жалок, хотя автор намеревался дать ему физиономию выразительную, носящую на себе отпечаток самобытного и твердого характера. Стрелецкий сотник сбивает его с толку самыми простыми возражениями, которые, вероятно, отъявленный раскольник задавал себе тысячу раз и слышал от других столько же [...] И самые разговоры раскольников любопытны только внешнею стороною, показывая в авторе искусство творить славянские изречения. Одна сцена “Последнего Новика”, в которой раскольник размозжил о камень себе голову, когда ему обрили бороду, больше знакомит нас с изуверством, отличительной чертой староверов, чем весь “Брынский лес”»[25].

Иное мнение об изображении старообрядцев в романе высказал В.Г. Белинский: «К числу хороших сторон нового романа г. Загоскина должно отнести еще вообще недурно, а местами и прекрасно очерченные характеры раскольников: Андрея Поморянина, старца Пафнутия, отца Филиппа и Волосатого старца, и боярина Куродавлева, добровольного мученика местнической спеси. Но всех лучше обрисован Андрей Поморянин. Нельзя не пожалеть, что г. Загоскин занимает в своем романе внимание читателя больше бесцветною и скучною любовью своего героя, нежели картинами нравов и исторических событий этой интересной эпохи»[26].
Современный литературовед О.В. Христолюбова в исследовании «М.Н. Загоскин как исторический романист»[27] отмечает, что в «Брынском лесе» выражена попытка соединить романтизм и реалистические приемы. Сложная, запутанная интрига с неожиданными поворотами действия, обращение к фольклору как средству воссоздания исторической эпохи, прием «вещего сна» — все это характерные черты романтизма. Наглядное воспроизведение бытовых черт эпохи автор расценивает как реалистическое веяние. Это выразилось, в частности, в описании старообрядческих скитов. Но нужно заметить, однако, что М.Н. Загоскин не описывал скиты «с натуры», а опирался на противостарообрядческую литературу (например, на «Полное историческое известие...» А.И. Журавлева) и собственное воображение. Достаточно сравнить описание купели, устроенной «самокрещенцем» Павлом у М.Н. Загоскина и у А.И. Журавлева, чтобы выявить совпадение целого ряда деталей[28]. У того же А.И. Журавлева позаимствовал М.Н. Загоскин и анекдот о том, как, уговаривая старообрядцев принять свое вероучение, Павел поставил условие: если он выпьет любой яд, который ему поднесут, и не умрет, значит его вера правая. Павлу поднесли три стакана обычного вина, от которых он свалился и заснул, проиграв спор. У А.И. Журавлева вместо вина — водка. От нее «...свалился бедной Павел с скамейки, на которой сидел, и проспавшись, опорочил свой толк изблеванием водки»[29]. Так анекдотичная история как прием высмеивания старообрядцев перешла из публицистики в собственно литературное произведение.
Общая характеристика старообрядцев не выходит в романе за идеологические рамки полемической литературы. Они показаны М.Н. Загоскиным с неприязнью. Это «изуверы», «буйная сволочь», их аргументы в защиту веры отцов — «невежественные бредни и богопротивная ересь». «Грубое невежество и эта фарисейская гордость, которую мы называем фанатизмом, ненавидят истину. Многоречие, пустословие, превратное толкование текстов и насилие — вот их здравый смысл и логика». Поскольку роман содержит явные аллюзии на книгу А.И. Журавлева, мы полагаем, что не цензурные соображения, как считает О.В. Христолюбова, а именно некритическое следование традициям противостарообрядческой публицистики оказывало решающее влияние на М.Н. Загоскина в изображении старообрядчества. Отсюда такие резко отрицательные характеристики и зарисовки старообрядцев. Цензура вполне смирилась бы с нейтральной авторской позицией по отношению к дониконовскому православию. Интересную гипотезу по поводу написания «Брынского леса» выдвигает еще один современный исследователь — М.А. Дзюбенко. По его мнению, роман был своеобразным откликом писателя на действия старообрядцев по поиску епископа, который восстановил бы полноту иерархии в их церкви. М.Н. Загоскин знал об этом. Как известно, эти поиски увенчались успехом, и в 1846 г., когда и вышел в свет «Брынский лес», к старообрядцам присоединился Босно-Сараевский митрополит Амвросий. М.Н. Загоскин писал миссионерский роман, рассчитанный «на ту аудиторию, чьим обычным книжным репертуаром полагал жития и лубок»[30]. Это определяет его тематику, специфику изображения старообрядцев, стилевые особенности.
В изображении брынских скитов М.Н. Загоскин руководствуется принципом, который определил Димитрий Ростовский в «Розыске...»: «Елико скитов, елико вер; а всяк скит свою веру хощет возвеличити и правду сотворити»[31]. Так и в Брынском лесе рассыпаны самые разные скиты, каждый со своим вероучением, зачастую изуверским, и проповедниками. Портреты последних сатирически заострены, что достигается, например, при помощи сравнений с животными. Один из старцев похож на злую цепную собаку, другой «сладкоговорящий лицемер» — на дикую кошку. А вот карикатурный портрет третьего старца, Антипа Коровьи Ножки: «Его прямой и узкий лоб, его бездушные оловянные глаза, бессмысленные взгляды и совершенное отсутствие выражения в этих пошлых чертах лица, безжизненного в высочайшей степени — все носило на себе отпечаток и природной глупости, и совершенного невежества» и т. п.
Как и у И.И. Лажечникова, художественный образ старообрядчества и старообрядца в «Брынском лесе» отмечен влиянием разных полемических канонов. Показана антигосударственная деятельность старообрядческих вождей (Андрей Денисов, Никита Добрынин («Пустосвят») как один из предводителей взбунтовавшихся стрельцов), их негативные свойства и черты характера гиперболизированы в высшей степени (тот же Андрей Денисов со спутниками в «Последнем Новике», старцы Пафнутий, Филипп, Антип в «Брынском лесе»). Старообрядцы предстают смешными, окарикатуренными (в «Последнем Новике» — портрет Андрея Денисова, его действия, анекдот с жителями деревни Нос; в «Брынском лесе» — анекдот о Павле, споры старцев в лесу о деньгах и о том, можно ли пить молоко коровы, которая щипала траву на могиле еретика). «...Безумный фанатизм, фарисейское лицемерие и глубокое, закоснелое невежество», — вот три начала, олицетворяющие любой раскол, определенные М.Н. Загоскиным в одной из авторских характеристик старообрядчества в «Брынском лесе»[32]. Он полностью отрицает положительный идеал в старообрядчестве.
Если в художественную задачу писателя не входило сатирическое изображение старообрядчества, он, соответственно, не прибегал к устоявшимся публицистическим канонам. Старообрядчество представало как неизученное, таинственное явление. С другой стороны, внимание к народному быту и усиление реалистических тенденций провоцировали литературное осмысление старообрядчества в контексте его повседневной жизни, а не с опорой на тенденциозную литературу. С утверждением реализма связано открытие положительных сторон в характере старообрядца, полезных для общества, забывающего свои корни. Одним из первых эту мысль высказал (может быть, случайно) устами Чацкого А.С. Грибоедов:
Пускай меня отъявят старовером,
Но хуже для меня наш Север во сто крат
С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад —
И нравы, и язык, и старину святую,
И величавую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям;
Движенья связаны и не краса лицу
Смешные, бритые, седые подбородки:
Как платья, волосы, так и умы коротки[33].
Здесь значение слова «старовер», может быть, не имеет прямого отношения к старообрядчеству как религиозному течению, с самобытной системой взглядов на мир. В этом смысле оно синонимично слову «стародум» в определении В.И. Даля («любитель обычаев старины»)[34]. Причем эта «старина» может заключаться в чем угодно. «Пускай слыву я старовером, / Мне все равно — я даже рад: / Пишу Онегина размером; / Пою, друзья, на старый лад», — начинает М.Ю. Лермонтов поэму «Тамбовская казначейша»[35]. «Староверие» героя заключается здесь в приверженности и симпатиях к определенным приемам творчества, открытым до него. «Староверие» Чацкого в том, что ему дороги именно те обычаи, которые сберегли старообрядцы, хотя к ним самим Чацкий никак не может быть отнесен и никакого определенного представления о них не имеет. А.С. Грибоедову было важно таким образом показать протест героя против общества, преклоняющегося перед иностранщиной, «не помнящего родства».
В.А. Соллогуб, показывая в повести «Тарантас», полностью опубликованной в 1845 г., различные слои современного ему общества (чиновники, купцы, дворянство), вводит в главе «Сельский праздник» короткий эпизод со старообрядцем. Он необходим, чтобы, во-первых, подчеркнуть, что простой народ, крестьянство - не однородная и безликая масса людей, а нечто более сложное. Во-вторых, чтобы подчеркнуть бессилие главного героя с его славянофильскими идеями осмыслить основы народной жизни, приблизиться к простому люду.
Молодой дворянин Иван Васильевич, который едет в тарантасе в Казань и мечтает посвятить свою жизнь высокому служению на благо Отечества, замечает в одном из сел странного человека: тот не снял шапки перед священником и «грубо отвернулся». Как потом выяснилось, это был старообрядец. Он у В.А. Соллогуба «играет» роль без слов. Ивану Васильевичу кажется, что случайная встреча подсказала ему достойную сферу приложения своих сил. «Вот впечатление! Вот задача! — подумал он. — Определить влияние ересей на наш народ, отыскать их начало, развитие и цель». Но первая же попытка выяснить суть «старой веры» оказывается безуспешной, никто Ивану Васильевичу не может этого объяснить. Иван Васильевич понимает, что осуществить задуманное неспособен.
Так в «Тарантасе» оказалась коротко очерчена назревшая необходимость изучения сектантства и старообрядчества. Она сформулирована уже как масштабная государственная задача. Эта идея, по-видимому, посещала тогда не одного только соллогубовского героя.
В начале литературной деятельности П.И. Мельников разделял общепринятое критическое мнение о старообрядчестве, что отразилось в его рассказах («Поярков», «Гриша»). Образ старообрядчества в них основывается на художественном преломлении принципов противостарообрядческой публицистики. При этом, в отличие от произведений И.И. Лажечникова и М.Н. Загоскина, это преломление идет в рамках другого художественного метода, реалистического. Но об этом — далее.
[1] Соколова В.Ф. П.И. Мельников (Андрей Печерский): Очерк жизни и творчества. Горький, 1981. С. 58.
[2] Шешунова С.В. Бытовое поведение в изображении П.И. Мельникова (Печерского) // Вестник Московского университета: Сер. 9: Филология. М., 1987. №2. С. 73.
[3] Мельников П.И. Собр. соч.: В 8 т. М., 1976. Т. 1. С. 59. Здесь и далее даются ссылки на указанное восьмитомное собрание сочинений П.И. Мельникова, издававшееся в 1976 г.
[4] Троицкий В.Ю. Духовность слова. М., 2001. С. 92.
[5] Дневник Алексея Сергеевича Суворина. London. М., 1999. С. 200.
[6] Розыск о раскольнической брынской вере... М., 1824. С. 93.
[7] Смирнов В.Г. Феофан Прокопович. М., 1994. С. 88.
[8] Феофан Прокопович. Оправдание поливательного крещения. М., 1913. С. 2-2об.
[9] Там же. С. 5.
[10] Там же. С. 3 об.-4.
[11] Воропонтов Ф. Мысли о терпимости к расколу // Современная летопись. 1860. № 43. С. 30.
[12] Муравьев А.Н. Раскол, обличаемый своею историею. СПб., 1854. С. 92.
[13] Слепушкин Ф.Н. Рассказ детям отца, бывшего в расколе перекрещиванцев. СПб., 1847.
[14] Журнальная публикация носила название «Исторические очерки поповщины».
[15] Попов В. Тайны раскольников, старообрядцев, скопцов и других сектаторов. СПб., 1874. С. 10.
[16] Кантемир А.Д. Сатира I: На хулящих учение. К уму своему // Кантемир А.Д. Соб рание стихотворений. 2-е изд. Л., 1956. («Б-ка поэта»), С. 63.
[17] Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1992. («Литературные памятники»). С. 81.
[18] Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1999. С. 113.
[19] Шаталов С.Е. Романтические веяния в русской литературе первого десятилетия XIX века // История романтизма в русской литературе. М., 1979. С. 104.
[20] Лажечников И.И. Последний Новик // Лажечников И.И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1994. Т. 3. С. 357—358.
[21] Уставщик — мирянин, хорошо разбирающийся в церковном богослужебном уставе, знающий знаменное пение, руководящий во время церковной службы чтением и пением на клиросах.
[22] Тип четок, сохранившийся у старообрядцев. Символизирует одновременно и лествицу (лестницу) духовного восхождения от земли на небо, и замкнутый круг, образ вечной и непрестанной молитвы. Употребляется для облегчения подсчета молитв и поклонов.
[23] Лажечников И.И. Указ соч. С. 453.
[24] Петров С.М. Русский исторический роман XIX века. М., 1964. С. 269.Лажечников И.И. Указ соч. С. 453.
[25] Отечественные записки. 1846. Т. XI.V. № 4: «Библиографическая хроника». С. 47.
[26] Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года // Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 211-212.
[27] Христолюбова О.В. М.Н. Загоскин как исторический романист. Пенза, 1999.
[28] «Путешественники подъехали к небольшой избе, у которой тесовая кровля была окаймлена со всех четырех сторон широким желобком; на углах были сделаны деревянные отливы, а от них проведены другие желобы в огромной величины плетушку, обмазанную снаружи и изнутри глиной; эта плетеная посудина походила на большой продолговатый чан и была почти вся наполнена водой» (Загоскин М.Н. Брынский лес: Русские в начале осьмнадцатого столетия: Романы. М., 1993. С. 154). «Наконец сей ревнитель удалился во внутренность лесную, наломал прутьев, наталкал глины и смолы с дерев, сделал плетюшку, обмазал ее, и отовсюду чрез желобки и канальцы во время дождя сбирал воду». (Журавлев А.И. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разгласиях. СПб., 1799. С. 177).
[29] Журавлев А.И. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разгласиях. СПб., 1799. С. 179.
[30] См.: Дзюбенко М.А. Роман М.Н. Загоскина «Брынский лес » в историческом контексте // Старообрядчество: История, культура, современность. М., 2004. Вып. 10. С. 46—54.
[31]Розыск о раскольнической брынской вере... М., 1824. С. 565.
[32] Загоскин М.Н. Брынский лес: Русские в начале осьмнадцатого столетия: Романы М., 1993. С. 125.
[33] Грибоедов А.С. Горе от ума. // Сочинения. М.-Л., 1959. С. 82.
[34] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991. Т. IV. С. 318.
[35] Лермонтов М.Ю. Тамбовская казначейша // Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4-х т. Л., 1980. Т. 2. С. 347.
Теги: классицизм, романтизм, Андрей Журавлев, Федор Слепушкин, Михаил Загоскин, Иван Лажечников, Андрей Денисов