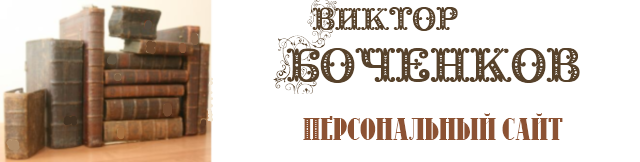«По голгофским русским пригоркам…»
(Николай Клюев)
То был один из тех дней октября, когда на короткое время вдруг становится тепло, небо бывает безоблачно синим, и синева будто нарисована гуашью, она насыщенная, плотная, теплая, густая. Я не помню, зачем поехал в Мещовск. В небольшом калужском городке удивило название главной улицы – Проспект Революции, в областном центре не было, и сейчас нет ни одного проспекта. По проспекту ехала лошадь, тянула телегу с мужиком, который держал натянутые вожжи, копыта громко цокали по асфальту. Тогда, двадцать пять лет назад, был на этой улице книжный магазин, располагавшийся в приземистом каменном доме, который показался мне старинной купеческой лавкой. Сухие листья возле нескольких ступенек и вдоль обочины, обрамленные выступающим кирпичом узкие окна, портик, двойные двери. Там я купил за рубль и тридцать копеек «Песнослов» Николая Клюева. Этот сборник только что вышел в Петрозаводске. На темно-синей обложке был белый овал, в нем раскрытая книга и вверху цветок с пятью лепестками – эмблема популярной серии «Сельская библиотека Нечерноземья».
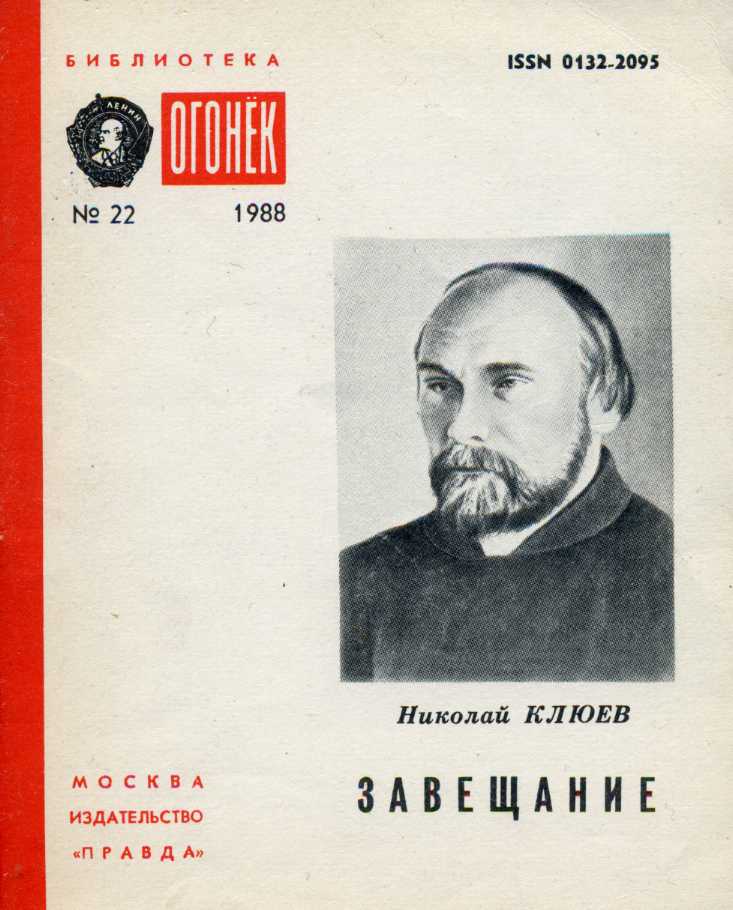
«Завещание». Один из «перестроечных» сборников Н.А. Клюева
О поэте много писали в те годы. В «Новом мире» была напечатана его «Погорельщина», стал известен автограф поэмы из следственного дела. Намного раньше к творчеству поэта обратился журнал «Север». Недавно мою библиотеку пополнил тонюсенький «перестроечный» клюевский сборник «Завещание», шестьдесят четыре страницы, вышедший в серии «Библиотека “Огонек”» в 1988-м с логотипом популярного тогда журнала в левом верхнем углу: белые буквы на красном фоне, черный орден Ленина… Вступительное слово написано литературоведом Сергеем Субботиным (он и карельский писатель Иван Костин – авторы предисловия к моему «Песнослову». Сейчас я понимаю клюевские стихи совсем иначе, но тогда меня, молодого человека, смущала его тяжеловесная лексика: хризопрас, аксамит, куделя, самоцветный павлин, китовальня, благоухающий «звукоцвет», струфокамил (страус по-гречески, оказывается). Запомнился почему-то «Стих о праведной душе»:
Жила душа свято, праведно,
Во пустыне душа спасалася,
В листвие нага одевалася,
Во бересто боса обувалася.
Притулья̀-жилья душа не имала,
За застольным брашном не сиживала,
Куса в соль не обмакивала.
Утрудила душа тело белое,
Что ль до тугѝ-издыхания смертного,
Чаяла душа, что в рай пойдёт,
А пошла она в тартарары.
Душа только в том оказалась виновата, что в страстную пятницу «стреснула» «глупыш масляный», и я почему-то представил себе, что это кусок хлеба, маленький и круглый. Здесь и трагедия, и тайна сострадания за ней… Непостижимая тогда суть клюевского стиха, если вообще она постижима – до конца, стала открываться мало-помалу позже, со временем, и сейчас, вспоминая тот синий день, я не жалею, что приобрел ту книгу. Я жалею, что книжного магазина наверняка больше нет, их постепенное исчезновение – верная примета наших лет. Что там теперь, в этой купеческой лавочке? Хотя, с чего я взял, что там действительно была лавочка (мне просто хочется так думать, и только!), не знаю.
А к Клюеву я возвращаюсь, потому что меня притягивает его редкая органичность: поэтическая, мистическая, коренная славянская, жизненная. У него слова – горят. У него за одним смысловым слоем открывает другой, затем третий, потому-то они неисчерпаемы. Их тяжесть, как гроздь зрелой рябины, которая клонится алыми бусинами к земле и тянет за собой всю ветку. За всяким его словом – то аллюзии, то целые культурные пласты. Клюев – это полная независимость от литературных направлений, от духа времени, хотя, безусловно, его стихи – выражение и осмысление духа времени. У него все двоится: старообрядчество его – не старообрядчество, скопчество – не скопчество, советское – не советское, крестьянское – не то крестьянское, что в России центральной или южной, орнамент его – и стилизация и не стилизация, только русское – подлинно русское. Его помыслы о чистоте сердца еще разгадывать и разгадывать. Я не сразу постиг Клюева. Да и разве это можно? Тогда я отложил ту книгу, но спустя много лет снова беру ее в руки. Постепенно, благодаря собранному материалу, поискам, сложилась вот эта статья…
1
Есть русское бродяжее начало…
Евгений Винокуров
Сначала о Павле Ивановиче Мельникове-Печерском. Совсем немного.
У него в «Отчете о состоянии раскола в Нижегородской губернии» (1854 г.) изложены особняком «недостатки русского народа», этакие, если выражаться современным научным словом, этнопсихологические наблюдения. Они могут показаться наивными, однако по-своему интересны.
На первое место писатель ставил склонность к бродяжничеству и самовольству. В русском человеке якобы живет «безотчетное» желание «порыскать по свету»: он любит простор и раздолье и, ходя за сохой, поет про синее море, про широкую степь. «Воля» для него не значит «свобода», это – «жилье вне дома». Русский человек способен внезапно сорваться с привычного места и уйти странствовать неизвестно куда. С этаким порывом пошататься сочетается и стремление к воле как к «безотчетной свободе». «Бредит спросонья русский человек о той “воле”, где нет ни рекрутчины, ни подушного, ни паспортов, где никто не смеет стащить его с печки и послать на работу.., где не нужно ходить с жалобой на обидчика к начальству и выжидать целые годы конца делу...»
Второй недостаток – легковерие. Русский любит и верит вздорным слухам, «и чем нелепее молва, тем сильнее он ей верит». «Народная фантазия тешится таинственностью события, и толпа не замедлит уверовать в первого пройдоху, который дерзнет принять на себя славное имя, причем никогда не будет рассуждать о сходстве возраста или наружных приметах»[1].
Следствием легковерия и стремления к «безотчетной свободе» становится «склонность к возмущениям без причины» – третий недостаток. В основе народных неповиновений лежит «непонятное увлечение несбыточной небывальщиной». «Чем несбыточнее молва, тем лучше ей верится и тем скорее подает она повод к беспорядкам»[2]. Все возмущения помещичьих крестьян имеют нелепые предлоги, что П.И. Мельников показывал в «Отчете…» на нескольких примерах. Объявил себя какой-то Пугачев царем – поверили.
Четвертый недостаток – суеверность. Народ верит в скорое светопреставление, в «последние времена» и всякую мелочь считает предзнаменованием грядущего конца миру. Все старообрядчество вообще держится на суевериях, возводя их в ранг незыблемой религиозной доктрины. «Это обстоятельство вместе с тем составляет главнейший вред, причиняемый раскольниками народной нравственности и благоустройству государственному»[3].
Это – если вкратце.
Нужно отметить попутно, что все эти «недостатки» приписаны людям крестьянской среды, не интеллигенции, не дворянам.
Но мы, собственно, не о Мельникове, о Клюеве.
Удивительно или нет, но юность его вполне вписывается, или – почти вполне, в эту схему, обоснованную, прямо скажем, не очень-то доказательно, хотя Мельников что-то все-таки уловил интуитивно и подспудно, что-то существенное...
Самый конец 1890-х – белое пятно в биографии Клюева. Это его сплошные странствования по Руси, от которых осталось только несколько обрывочных свидетельств, а между тем на это время приходится его личностное и мировоззренческое становление, и мимо этих лет нельзя пройти.
Оставляя родительский дом, он уходит на Соловки, носит вериги, как тот юноша-старообрядец Гриша из одноименного Мельниковского рассказа, но затем, так же, как и он, очевидно, «обольщенный» чьей-то проповедью, уходит из монастыря, скитается по Центральной России и Кавказу, по хлыстовским, скопческим «кораблям». И является в литературу, как «власть имеющий», со своим, уже сложившимся самобытным мировидением.
Вот, пожалуйста, «безотчетное» желание «порыскать по свету» налицо.
Были и «возмущения без причины» (хотя почему без причины?) и жалобы на обидчиков, и заключение в тюрьму за участие в эсеровской пропаганде.
Всё по мельниковскому «Отчету…»
Дорога – это возможность прожить еще одну жизнь одновременно с той, которая уже дана. Больше, странничество – образ жизни Христа. Только ли тут разгадка того самого мельниковского «безотчетного желания» и клюевских странствий? Где-то в этих неизвестных дорогах складывались глубинные основы его творческого видения. Не из ахматовского «сора» – «из природной красы, из высокого строя Ветхого завета, Евангелия, “Поморских ответов”, из народной речи рождались клюевские стихи». Так определяет их истоки Сергей Куняев в книге «Николай Клюев», изданной «Молодой гвардией» (М., 2014).
 Н.А. Клюев
Н.А. Клюев
Клюевское странствование – никакой не «недостаток» мельниковский. Это форма и опыт самосовершенствования, поиск духовного пути, обретение себя.
Клюев не потерял эти годы даром. «От норвежских берегов до Усть-Цильмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавлиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим – не сказка, а близкая, родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая – Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонецкой ли поземке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот – усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия»[4].
Вот ради чего он, и не один он, уходил.
Если присмотреться, как любит он этот размашистый «географический» оборот из двух предлогов «от…» и «до…»: «От Бухар до лопского чума» («Псалтырь царя Алексия…»); «Будет буря от Камы до Перу» («Ленин на эшафоте…»); «От Норвеги и до смутной Лабы»; «От Сахалинского острога до звезд в глубоких небесах» («Погорельщина»); «От звезд до луковой гряды» («Изба – святилище земли…»); «О, только б странствовать вдвоем / От Соловков и до Калуги» («Бумажный ад поглотит вас…»); «От Байкала до теплого Крыма / расплеснется ржаной океан» («Красная песня»); «От Пудожа до Бомбея / Расплеснется злат-караван» («Проснуться с перерезанной веной…»); «От Нила до кандального Байкала / Воскреснут все, кто погибли» («Се знамение: багряная корова…»); «От Лаче-озера до Выга / Бродяжил я тропой опасной», «От Арарата до Поморья» («Разруха»); «И от Печенеги и до Бийска / Завьюжить песенную цветь» («Клеветникам искусства»).
Но и без этих предлогов – та же широта: «Свалю у ворот Судана / Вязанку стихов овинных»; «С Соловков – на узорный Багдад»; «Какие Припяти и Евфраты / Протекают в жилах кровями?»
Странствовал, скитался и Максим Горький.
Да.
Но у него за этим… нет, пусть не прагматизм. Но что-то близкое. Четкая цель. Другое, но свое интимное желание – стремление познать народ… Духовное совершенствование, религиозный порыв где-то в стороне. Тут – ведение земное, там – за пределами земли. Как-то листал томик горьковских писем и встретил вот это признание, доверительно высказанное Павлу Хрисанфовичу Максимову, советскому писателю:
«Хождение мое по Руси было вызвано не стремлением к бродяжничеству, а желанием видеть – где я живу, что за народ вокруг меня? Я, разумеется, никогда и никого не звал: “идите в босяки”, а любил и люблю людей действующих, активных, кои ценят и украшаю жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни. Вообще русский босяк – явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен этот человек прежде всего и главнейшее – невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни»[5].
Вот что-что, а Клюеву отчаяние и «босячество», с ним связанное, не припишешь.
Кажется, вся Русь – хождение. Имманентно присущее свойство русского национального характера, как по Мельникову-Печерскому, которое, быть может подспудно, живет и действует, зовет в путь его Герасима Чубалова («На Горах») и лесковского Ивана Северьяныча Брагина – очарованного странника, хождение народническое, потом клюевское – от сектантских «кораблей» в литературный «высший свет», добролюбовское (имею в виду поэта Александра Добролюбова) – в противоположном направлении, от искусственной культуры, от «высшего света», в низы, в сектантство[6], и чем-то сродное ему, наверно (а может, и нет), есенинское, с этакой вот готовностью (игровой ли?) на все махнуть рукой: «Брошу все, отпущу себе бороду, и бродягой пойду по Руси», чтобы позабыть «поэмы и книги» – искусственный мир, провонять редькой и луком «и во всем дурака валять»[7], вот это горьковское, познавательное, «исследовательское» хождение…
Дальше у Горького, через несколько строк, еще одно интересное признание: «Я осуждал и осуждаю интеллигенцию за то всегда, что она живет чужими мыслями, мало знает свою страну и тоже – пассивна, больше мечтает и спорит, чем работает, – это пагубно, с этим надо бороться. Но – знайте, что русская интеллигенция, исторически взятая как сила, а не как те или другие лица, – явление исключительное, чудесное почти, и нашу интеллигенцию есть за что любить, есть за что уважать. Она часто впадает в неверие, в отчаяние, но – это наша национальная черта – нигилизм, он и народу свойствен не менее, чем культурным людям, а каков приход, таков и поп, да, да!»
Нигилизм… Мельников-Печерский, горьковский земляк, его не подметил. Но ведь он не об интеллигенции писал. И жил в другое время.
Я бы дерзнул продолжить: наша интеллигенция прекрасно знает «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, знает «бесовскую» формулу, там прозвучавшую: «Кто проклянет свое прежнее, – тот уже наш!»[8], знает, наверно, и горестное признание Антона Владимировича Карташова, успевшего побыть при Временном правительстве обер-прокурором Синода (пусть недели две, но все же), по поводу никоновской церковной реформы: «Все русские отцы собора 1667 г. посадили на скамью подсудимых всю русскую московскую церковную историю, соборно осудили и отменили ее»[9], но вот саму суть тогдашней церковной трагедии, церковного раскола, породившего по существу два разных народа, то самое «осужденное прошлое», осужденное старообрядчество, смысл и суть его протеста, осужденное русское религиозное разномыслие – знать она не желает, как будто боится его, в упор не видит. Фундаментальная монография о расколе XVII века принадлежит французу Пьеру Паскалю[10]. Что же касается русского религиозного разномыслия (не люблю узкое слово «секта»), то самая обстоятельная обобщающая монография о наших скопцах, «Скопцы и Царство Небесное» (М., 2002), написана американским профессором Лорой Энгельштейн. О скопцах и хлыстах есть солидная монография А.А. Панченко «Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект» (М., 2002), и я не удивился, когда на второй странице увидел пометку, что она подготовлена при поддержке «Open Society» Institute (Института «Открытое общество», учрежденного Джорджем Соросом) и Российского гуманитарного научного фонда. Замечательная книга «Хлыст», с подзаголовком «Секты, литература и революция», о сектантских увлечениях творческой российской элиты, написана А.М. Эткиндом, и автор этого прекрасного исследования – человек, судя по фамилии (это не в обиду), по происхождению не русский. Есть множество диссертационных исследований по сектантской тематике, но почему-то они не дорабатываются до монографий, в библиотеки попадают только в виде авторефератов.
Или там, в середине XVII века, – что-то такое, что страшно признать даже сейчас, какая-то великая неправда, которая будет мешать жить, обрушив «каноническую» систему взглядов на церковную историю, и тогда последующие триста с лишним лет надо будет переоценивать, а то и (вдруг!) зачеркнуть? Это действительно страшно. Зачеркнуть? – хочу я остановиться и переспросить сам себя. Опять? Но с парохода национальной и церковной истории это время не выбросишь тоже. С ним надо жить. Но тогда как? Наша церковная история пошла после никоновской реформы двумя путями. Как примириться нам?
Русская национальная идентичность ассоциируется с принадлежностью к православию, и здесь оно понимается только как православие официальное, административно управлявшееся Синодом. «Ведомством православного исповедания», как значилось на архиерейских делопроизводственных штампах. Все остальное, что за его рамками, уже не православие и нам, русским, неинтересно. Неинтересно даже при том вкладе, какой внесен был в русскую культуру, в созидание русского государства теми же «раскольниками», благодаря которым в XVIII веке шла русификация российских окраин, от Запада до Востока, до Забайкалья. В свое время знаменитый генерал Михаил Скобелев предлагал поселить в Ферганских землях, на границе с Кашгаром (Китай), не кого-нибудь, а именно старообрядцев-казаков, с целью русификации этих земель, с возможным образованием впоследствии Ферганского казачьего войска[11]. А это ведь было не так и давно…
Кто читал «Поморские ответы»? Эта классика православной апологетики известна понаслышке, разве только историкам и археографам. А для Клюева это – частица его жизни, глубинная разгадка, почему над русским народом на протяжении веков свершается все предсказанное в 28-й главе Второзакония. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши, и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя…» И это еще не вся кара тому, что возлюбит чужое более своего и разомкнет связь времен, которую защищал и отстаивал автор «Поморских ответов». Они – апологетика преемственности, и исторической, и церковной (а, значит, и мировоззренческой). Объемное доказательство только одной мысли, одной идеи: нельзя отступать от того, что свершено и завещано предками. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Эта строка из книги Притч (22:28) не единожды звучит в «Поморских ответах». Перечитайте и осмотритесь вокруг – 28-я глава Второзакония медленно, но верно продолжает свершаться и сейчас.
Раскол – национальная русская трагедия, и она заключается еще и в том, что это – не недоразумение, это вековая война русских против русских же, и единственное условие прекращения – полный возврат к дониконовским чинам и обрядам с пересмотром соборных решений 1666–1667 годов. Московская церковная история до сих пор на скамье подсудимых. Пепел Аввакума стучит в клюевское сердце.
Объемное доказательство только одной мысли, одной идеи – нельзя отступать от того, что свершено и завещано предками. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Эта строка из книги Притч (22:28) звучит в «Поморских ответах» не единожды.
Клюевский Ленин ищет в «Поморских ответах» «истоки разрух». Русская интеллигенция – не ищет. И не собирается… Интересно, как понимал те клюевские строки Александр Блок. «Истоки» здесь – не причины и не начала, это, наоборот, – выход, исход, решение и разрешение. «Утверждение национального характера новой власти»[12]. Религиозное обновление. Ключ ко всей истории последних трех столетий.
Период раскола русской церкви – русская национальная трагедия – изучается в первую очередь в сфере археографии, а само старообрядчество сводится к книжности, фольклору, традициям пения. Оно не изучается как особый путь Русского Православия со своей философией и апологетикой, духовными исканиями и блужданиями, историей, где огромное значение приобретали личность, приход, воля церковного народа, как особый русский опыт противления злу ненасилием, нашему первому «европейничанию»[13]. Да, так. «Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев! А Николе Чюдотворцу имя немецкое: Николай» (протопоп Аввакум).
Я всецело поддерживаю давнюю мысль, высказанную русскими филологом Павлом Никитичем Сакулиным, выходцем из старообрядческой (единоверческой) семьи: только изучив мировоззрение писателя, можно проникнуть и в сокровенную суть его творческого метода. Клюевское мировоззрение – сплав старообрядческого мировидения и неизученного русского религиозного разномыслия, «природной красы» и «народной речи», личных духовных откровений. У него действительно «христианское время наплывает на языческое», сосуществуют разные стихии. Он верит, что «только добровольная нищета и отречение от своей воли может соединить людей. Считать себя худшим под солнцем, благословить змею, когда она ужалит тебя смертельно, отдать себя в пищу тигрице, когда увидишь, что она голодна, – вот скрепы между людьми. Всемирное, бесконечное сожаление – вот единственная программа общежития. Вере же в человека нужно поучиться, напр., у духоборов или хлыстов-бельцов, а также у скопцов»[14].
«Старый русский словарь, бытовавший и бытующий на севере, настоенный на древних корнях, Клюеву – как заветный круг, которым он огораживает себя и свой мир от проникновения чужого духа, идущего из мира “царя железного”... Поэту не было нужды, в отличие от многих его современников, искать нужное слово у Даля или у кого-либо еще из собирателей и исследователей народной речи. Он жил в этой языковой стихии сызмальства и с избой, елью, лесной тропой – изначально живыми для него – общался на родном им и ему языке. На нем и писался самый, пожалуй, красочный и монументально выстроенный, как русская изба – колено в колено, – насыщенный плотно уложенными смыслами поэтический сказ его военного времени – “Беседный наигрыш, стих доброписный”»[15].
Да.
Клюев – не стилизатор, как может показаться.
2
Христианство без активности, без подъема,
без «дон-кихотства» – немыслимо.
Старообрядческий епископ Михаил (Семенов)
Здесь – немного о «голгофском» окружении Клюева. Даже, точнее, о человеке, которого он единожды упомянул в письме, о том, что за этим стоит.
Голгофское христианство – совсем небольшой кружок, в орбите которого оказался на короткое время и поэт.
«И в истории литературы, и в истории религии это явление как-то не очень занимает исследователей. Но именно философия голгофского христианства максимально впитала в себя все особенности того времени, всю амальгаму мятежности, революционности, идей о необходимости голгофской крови ради светлого будущего и – идей глубоко нравственных, поистине христианских, немыслимых без любви и сострадания к ближнему», – писала в 1992 году современная исследовательница Наталья Солнцева[16].
Это совершенно так, да.
Вначале был Достоевский с его мыслью, вложенной в уста старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»: «Когда же (человек. – В.Б.) познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека» (из главы «Отец Ферапонт»). Вот оно, клюевское «голгофское» «всемирное бесконечное сожаление». В 1902 году «голгофская» идея прозвучала со страниц консервативнейшего «Миссионерского обозрения» в статье иеромонаха Михаила (будущего старообрядческого епископа), «Христос на Голгофе и воскресший: «Путь покаяния до самораспятия есть общий неизбежный путь для всякой падшей и страдающей души. Это глубоко понял русский народ, в котором искание доброго всегда имеет форму покаянную. Влас Некрасова с его страстной жаждой самоспасания страданием – общерусский тип» (курсив автора)[17].
Влас некрасовский – тип раскаявшегося разбойника. Еще один вид «хождения»:
В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас – старик седой.
На груди икона медная:
Просит он на божий храм, –
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам;
Да с железным наконешником
Палка длинная в руке...
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике
Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал.
А потом, будучи при смерти, этот герой некрасовского стихотворения дал обещание построить церковь, если болезнь, из-за которой мерещился ему ад, крокодилы и разные чудища, отступит.
Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И сбирать на построение
Храма божьего пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро тридцать лет,
Подаянием питается –
Строго держит свой обет. <…>
Ходит в зимушку студеную,
Ходит в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары, –
И дают, дают прохожие...
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы божии
По лицу земли родной...
Я теперь поспорю: нет больше таких типов, как Влас, как Поярков из одноименного рассказа Мельникова-Печерского, раскаявшийся «коррумпированный» чиновник, тоже всё бросивший и ушедший странствовать, нет того русского народа. Вымер. И к современному не имеет никакого отношения.
Кроме Достоевского и Некрасова был Лев Толстой с его отрицанием государственной церковности, церковных обрядов вообще. Был «Антихрист» Ницше – конечно. И Розанов. Была назревшая необходимость перемен в самом строе огосударствленной церкви, ставшей разновидностью идеологического ведомства. Церкви, где истина Евангелия – на службе человеческой, на службе кесаря, по выражению того же старообрядческого епископа Михаила (Семенова), «наймит казенный», если вспомнить Клюева.
Был ибсеновский «Бранд» – драматическая поэма о бескомпромиссном священнике, убежденном, что Евангелие должно стать действенным законом всей общественной жизни, а не золотой книгой, спрятанной в алтаре. Это немыслимо без социального переустройства, которое определяется, верно или нет, как «христианский социализм». Бранд, главный герой, восставал против обветшалого и опошленного понимания моральных понятий. Приметой и знаком эпохи рубежа девятнадцатого и двадцатого веков была стремительная переоценка ценностей.
Например, любовь.
И знать того я чувства не хочу,
которое зовут любовью люди.
Лишь Божью знаю я любовь, она же
не знает слабости; она сурова,
к избранникам своим неумолима.
Томясь душою в роще Гефсиманской,
молился Сын: да минет эта чаша!
И что же – внял Отец мольбе Сыновней?
Нет, чашу осушить пришлось до дна. <…>
Нет более опошленного слова,
забрызганного ложью, чем – любовь!
Им с сатанинской хитростью людишки
стараются прикрыть изъяны воли,
маскировать, что в сущности их жизнь –
трусливое заигрывание с смертью!
Из христианской жертвенной любви сделали средство самоуспокоения. Все будет прощено. Борьба за улучшение жизни не нужна. То же касается христианского долга.
Наш первый долг – хотеть всем существом,
и не того лишь, что осуществимо
и в малом, и в большом; хотеть – не только
в пределах тех или иных страданий,
трудов, борьбы, – нет, до конца хотеть;
хотеть и радостно готовым быть
пройти все мытарства души и тела.
Не в том спасение дающий подвиг,
чтоб на кресте в страданьях умереть,
но в том, чтоб этого хотеть всем сердцем –
хотеть и средь страданий крестных даже,
в минуты скорби и тоски предсмертной,
лишь в этом подвига суть, весь смысл <…>
Когда ж в такой борьбе одержит воля
Победу полную – и для любви
Очищен путь…
Голгофское христианство понималось и понимается порою превратно: мол, они призывали едва ли не к самораспятию в самом прямом смысле. Нет, призыв к Голгофе звучал именно в этом ключе Ибсеновского «Бранда» и Некрасовского «Власа», именно в этом «хотении» заключался. Слово «хотеть» выделено было курсивом в первом переводе поэмы, который появился в 1897-м году. И без «Бранда», без «Власа», без мысли о том, что переживание чужих грехов есть необходимый закон совести, голгофского христианства не понять. Герой поэмы иначе осознавал и гуманность:
Гуманность – вот бессильное то слово,
что стало лозунгом для всей земли!
Им, как плащом, ничтожество любое
старается прикрыть и неспособность,
и нежеланье подвиг совершить;
любой трусишка им же объясняет
боязнь – победы ради – всем рискнуть <…>
…А был ли
гуманен к Сыну сам Господь Отец?
Бранд пытался основать церковь, которая бы стряхнула с людей сонливость, преобразовала бы мир, где Евангелие вспоминается лишь по воскресным праздникам, и такой общественный порядок, где бы Евангелие пронизывало все существо человека, «будничный труд и воскресный покой», «юности резвость и старца печаль». В послераскольной России постепенно сложилось и со всей очевидностью обозначилось то противоречие, о котором высказался в работе «Смысл жизни» Евгений Трубецкой: «Вопреки точному смыслу христианской веры, которая требует, чтобы Бог для верующего был всем во всем, чтобы Ему подчинялись все сферы жизни – для государства устанавливается исключение из этого общего правила. По смыслу ходячего макиавеллиевского воззрения, государство в своих отношениях к другим государствам признается не подчиненным какому-либо нравственному закону – божескому или человеческому. Этим вносится глубокое раздвоение в святое святых человеческой совести: в области частной жизни человек признает для себя обязательными заповеди любви к Богу и ближнему, но в области государственной он исповедует полное практическое безбожие и человеконенавистничество. Один и тот же человек, как христианин, считает себя обязанным положить душу за ближнего и рядом с этим, как гражданин, считает всякую мерзость не только дозволенною, но и должною, когда она требуется интересами его народа и его государства!»[18] Голгофское христианство было попыткой разрешить это противоречие. Было попыткой действовать и жить вопреки ницшеанской формуле, брошенной немецким философом в одну из записных книжек, о том, что цель христианства – «отказ от мира, а не развитие мира»[19]. Мир должен быть преобразован, иначе он пока не спасен.
«Раскрыть религиозный смысл “Бранда”, – говорил в своем докладе в Московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева Валентин Свенцицкий, – значит раскрыть смысл одного из труднейших путей ко Христу, это значит раскрыть смысл не только глубочайших процессов человеческого духа, но и всего человечества. Говорить о судьбе Бранда – значит говорить о судьбе мира». Ни больше, ни меньше. И через несколько строк: «Официальное христианство – погибло. Христианство буржуазии – это самый отвратительный вид мещанства, который можно только себе представить. Удобное, покладистое, без всяких жертв, не знающее кровавой Голгофы, не чувствующее светлого воскресения, оно превращено в орудие тьмы»[20].
Были кружки, где обсуждалось реформирование церковного управления, «Христианское братство борьбы», споры, религиозные собрания в Санкт-Петербурге, «новая религия» Мережковского…
«Как это ни радостно, как это ни заманчиво, но личное спасение души всегда останется личным, всегда носит характер чего-то обособленного и эгоистического и чуждо истинного христианства. Голгофа – вот символ христианства. Голгофа – вот место и смысл всей проповеди Христа. Отдать свою душу за других, отдать свою жизнь за жизнь всех людей – вот призвание христианина и вот чему учил наш Великий Учитель. Он так умер и нас этому учил, и только этому. Христианство Голгофы, христианство любви и служения другим, любви до несения позорнейшей смерти ради человечества – вот красота и величие нового учения, взволновавшего мир. И это учение теперь воскресает в народе. Сущность простой, но сильной, глубокой и неинтеллигентской, а настоящей мужицкой веры – только в этом»[21]. Это писал старообрядческий епископ Михаил в журнале «Красный звон». Это говорилось в пику т.н. «новому христианству».
Вместе с Валентином Свенцицким и Ионой Брихничевым, или даже раньше, выступил с голгофской проповедью и этот иеромонах, затем архимандрит «синодской церкви». Мне кажется, его упоминают в этой связи реже. Возможно, причина тому – разрозненность его отдельных статей, среди которых особо следует выделить цикл «Двенадцать писем о Христе подлинном». Вначале он публиковался на страницах казанского журнала «Церковно-общественная жизнь»[22] в 1907 году. Публикация оборвалась накануне присоединения епископа Михаила, тогда – архимандрита, к старообрядческой Церкви. Произошло это в двадцатых числах октября 1907 года, 5 ноября Синод объявил о лишении архимандрита Михаила сана, что для старообрядцев совершенно никакого значения, разумеется, не имело. Из-за закрытия журнала опубликованы были не все «письма», но полностью, с исправлениями, они увидели свет в «Красном звоне» за 1908 год[23]. Отдельным изданием «Двенадцать писем о Христе подлинном» вышли в 1909 году. Тогда же в Царицыне-на-Волге при прямом участии И.П. Брихничева начинает выходить журнал «Слушай, земля», епископ Михаил становится его постоянным автором. Но всего было выпущено шесть номеров. Пятый конфисковала цензура за публикацию статьи «Кто и зачем испортил христианство?». В запрещенной статье епископ Михаил бросал жестокое обвинение: государственное христианство – религия богатых.
«С IV века – после Христа – христианство стало религией для всех. Его приняло государство.
А известно, что государство управляется богатыми и сильными. И эти богатые и сильные просто приказали священникам переделать Евангелие, чтобы оно не мешало богатым.
И священники стали переделывать.
И вот тогда-то выдумали, что для христианина главное – терпеливо нести крест жизни, не роптать и стремиться только к небу.
Сильные дали слабым утешение в сладких мечтах о будущем, чтобы в настоящем они покорно несли свое ярмо»[24].
Вместо религии общественного дела, религии общей борьбы (как в «Бранде») христианство стало религией маленькой жалости, маленького сострадания. Вместо чувства ненависти ко злу и желания бороться с ним, «вместо чувства протеста против тюрем и публичных домов» христианство стало воспитывать «рабье» (словечко, встречающееся и у Горького) учение, что достаточно помогать первому ближнему, раздавленному колесом жизни. Посочувствовал, дал копеечку – и хорошо. И хватит. Долг выполнен.
Христианству и сейчас нужен Бранд. Некрасовский Влас. Мельниковский Поярков. Парамон юродивый Глеба Успенского.
Бог жив, и Ницше поторопился, но живо ли христианство с его преображающей общество силой? Возвысила ли церковь свой голос, когда на глазах народа разворовывалась и разворовывается страна, и где в ней теперь Златоуст, способный пойти на страдание, обличая новую Евдоксию? Возможен ли в современном православии иерарх, способный запретить вход в церковь высокопоставленному государственному чиновнику, пусть не убийце, но вору, как запретил Амвросий Медиоланский императору Феодосию Великому переступать церковный порог и призвал его к публичному покаянию после его расправы над восставшими фессалоникийцами? Где проповедь против непомерного обогащения, где его обличение, где?
Кто не с ограбленным народом, тот против него.
Бог жив, христианство – умерло.
Это, возможно, прозвучит резко, но даже искренне верующий человек, которого позвала в Африку евангельская истина и заповеданная этой книгой любовь, Альберт Швейцер, сказал едва ли не то же самое. «Религия нашего времени напоминает африканскую реку в сухой сезон: огромное русло, песчаные отмели, а между ними – маленький ручеек, с трудом пробивающий себе дорогу. Пытаешь представить себе, что это русло некогда было заполнено; что отмелей не было, а река величественно катила свои воды, и что придет день, когда эта картина повторится»[25]. Действительно, повторится ли?
С сентября 1910 года в Москве начала выходить «еженедельная общественная, литературная и политическая газета» «Новая земля», новый печатный орган кружка голгофских христиан. Редактором значится А.П. Готфрид, издательницей – М.Я. Готфрид-Свободина, фактический редактор – Иона Брихничев. Епископ Михаил активно публиковался в «Новой земле» весь 1910 год и половину 1911-го, до своего ареста и суда по делу об издании брошюры «Революционные силуэты (первомартовцы)»[26], после чего его сотрудничество резко и по непонятным причинам прекратилось. В «Новой земле» активно печатались сам Иона Брихничев, Николай Клюев, Валентин Свенцицкий, писатель Иван Наживин, изредка Валерий Брюсов, из зарубежных писателей здесь увидели свет короткие произведения Анатоля Франса.
В «Новой земле» появился цикл статей епископа Михаила, продолжающих апологию Голгофы, и посвященный пониманию сущности христианства.
Оно – «работа над переустройством земли в землю праведную, в царство правды и борьба за эту правду. И всякое иное христианство – ложь.
Мир еще “не спасен”. На Голгофе принесена первая великая жертва за мир, величайшая жертва, как образец и призыв, как проповедь и великое действие слияния воли Христовой с волей человеческой.
Христос на Голгофе бросил на мир кровь Свою, чтобы напугать людей зрелищем распятой жизни и заставить всех людей под Его главенством и с Его помощью начать искупление мира. Искупление должно было совершить человечество, принявшее великую мысль о преобразовании мира, провозглашенную с креста.
Христос со креста звал каменщиков и плотников на Свою постройку, но их не было, потому что их уверили, что нечего делать, спасен мир, построен Дворец Божий.
Человечество, сплотившееся во единой мысли о постройке на земле “Дома Божия”, объединенное и слившееся в живое тело Христово, это человечество, живущее во Христе, и должно быть тем чудотворцем, который воскресит мир, снимет с креста распятую жизнь, исцелит прокаженный мир, где кристаллизировалось, собралось воедино “многое зло”, в ветхих злых понятиях, внушенных столетиями лжи.
И только это обновление жизни станет истинной молитвой кресту. Не слезы, а “огонь” должен дать крест»[27].
Тему обновления в деле совместного переустройства жизни епископ Михаил развивает из номера в номер.
«Люди божественны. Они часть Великого Духа, одухотворяющего мир. Для них открыт путь к тому величию духа, какое дано здесь, на кресте.
Но во имя этой божественности на них и лежит великая тягота. Необходимость принять великий крест.
Они должны сделать то, что сделал на Голгофе Христос.
А что сделал Он?
Он в совесть Свою принял зло всего мира, грех всего мира, ужас перед человеком, который потерял образ свободного и стал рабом, и ужас перед землей, ставшей тюрьмой и домом терпимости.
И, принявши на себя этот мировой грех, пережил его с мукой, во сто раз, нет – бесконечно большей, чем всякая крестная мука, победил его.
Именно этой мукой, ужасом и любовью победил, потому что перед такой силой приятия злого мира в любовь Свою – не может устоять зло.
Должна бежать в небытие тьма.
И, мучительно пережив это понимание путей души человеческой, желающей искупить мир, Он на кресте позволил убить Себя, чтобы это величайшее из преступлений обременило невыносимой тягой душу даже Иуде и Пилату – даже в них родило то состояние духа, какое через Гефсиманию и лобное место привело к воскресению первого человека.
И этот путь – единственно христианский. <…>
Вне морали креста и догмы победившего (воскресшего) богочеловека – христианства как силы нет. <…>
Зло нашей ложно-христианской морали в том, что она ушла от этой центральной истины христианства к мнимо-христианской морали (против которой восстал Бранд. – В.Б.).
Немного люби. Не обижай. Трудись. К упряжкам вместо свободы[28].
Христос требует, чтобы христианин расширенными от ужаса глазами видел прежде всего зло в концентрированном, так сказать, виде, скопившееся и кристаллизовавшееся в “учреждении”, “сложном факте”, “в каждом окне публичного дома, в каждой железной перекладине тюремного окна, в рабстве и оковах, в ростовщичестве и рабьем труде”.
Требует той срощенности с миром, того слияния с жизнью в чувстве, ответственности за его “боли”, которая заставляет считать себя виновным за все зло, все насилие, пятнающее проказой скорбное лицо жизни.
Чувствовать в своей крови “сифилис” и всей жизни, и “сифилис”, который в крови каждой Любы или Машки, почти физически.
Даже не почти»[29].
16 мая 1911 года в Петербургской судебной палате прошли слушания по делу об обвинении епископа Михаила в содействии к выходу в свет брошюры «Революционные силуэты (первомартовцы)». В ее содержании усмотрели пропаганду революционного террора. В книгу входили короткие очерки о народовольцах С.М. Степняка-Кравчинского. Вся вина епископа Михаила была в том, что, не заинтересовавшись, он просто передал их (пять лет назад, будучи еще архимандритом) конкретному издателю на его усмотрение, перенес с одной питерской улицы на другую.
Палата приговорила его и непосредственного издателя к заключению в крепости на полтора года. Осужденные были немедленно взяты под стражу. За епископа Михаила внес залог в сумме 3000 рублей председатель петербургской старообрядческой общины Громовского кладбища П.А. Голубин. Иона Брихничев посвятил этому событию одну из своих статей, вышедшую в «Новой земле» 18 мая[30]. Следующий, девятнадцатый, номер газеты появился с портретом епископа Михаила на первой полосе (и стихотворением Клюева «Грешница»). До майского восемнадцатого номера 1911 года епископ Михаил печатался постоянно, газета горячо поддерживает его в беде, но вот – освобождение под залог, и – больше ни одной публикации, ни строчки ни в 1911-м, ни в 1912 году.
Как будто что-то оборвалось. Причин я объяснить не могу, можно только строить предположения о них. Статьи епископа Михаила, опубликованные в «Новой земле» и затем перепечатанные в журнале «Старообрядческая мысль», статьи из закрывшегося журнала «Слушай, земля» рассматривались 31 августа 1910 года на старообрядческом Освященном Соборе, нет ли в них ереси? Естественно, тезис о том, что человечество Христом еще не спасено, о «несовершенном искуплении», вызывал, скажем так, вопросы. Вынесенное тогда постановление вовсе не повлияло на сотрудничество епископа Михаила с «Новой землей», да и по смыслу своему не могло повлиять. Собор предостерегал «всех христиан-старообрядцев, чтобы они опасались руководствоваться такими его сочинениями, относясь к ним, как к сочинениям обыкновенных писателей, не имеющих никакого церковного авторитета и значения»[31]. И всё. Пиши себе дальше, только осторожней в выражениях. И епископ Михаил писал. Продолжал сотрудничество с другими старообрядческими изданиями, в частности, с журналом «Церковь», где он публиковался стабильно и много. Соборное решение можно не рассматривать в качестве причины фактического разрыва с «Новой землей». Однако вся эта травля и непонимание дорогого ему стоили.
В 1911-м Валентин Свенцицкий выпустил «Жизнь Ф.М. Достоевского», затем в 1912-м, выходит «Что такое голгофское христианство?» Ионы Брихничева, брошюрка на пятнадцать страниц.
Но сам епископ Михаил отходит от голгофского кружка, хотя не рвет с идеями, которые проповедовал. В 1913 году на страницах старообрядческого журнала «Церковь» публикуется статья «Смерть Исуса Христа и искупление». По существу, здесь прежние голгофские идеи[32]. И эта публикация – знак их универсальности.
Клюев и епископ Михаил публиковались на одних и тех же страницах. Один – стихи, другой – статьи. Об их знакомстве и отношениях нет никаких сведений. Один наездами из Олонецкой губернии бывал в Москве и Питере, другой жил на даче в Белоострове под Петербургом. Вряд ли они даже встречались. Единственное упоминание у Клюева: что старообрядческий архиерей должен был написать предисловие к его сборнику «Братские песни». Вернее, так почему-то трактуется фраза Клюева из письма к Блоку, датированного концом февраля или началом марта 1912 года: «Книга предполагается с вступительной статьей, что ли, епископа Михаила»[33]. Но, кажется, здесь совершенно не учитывают это «что ли». Поэт не был в этом уверен, точно ничего не знал. Это единственное упоминание о епископе Михаиле у Клюева в его переписке с Блоком. А епископ Михаил, между тем, после мая 1911-го, как я сказал, не поддерживал отношений с кругом «Новой земли». У него же самого имя Клюева и вовсе не встречается нигде. Ни в «Современном слове», ни в «Биржевых ведомостях», где он печатался особенно много, ни на страницах старообрядческой периодики. Клюев его не интересовал, выходит, хотя какое-то время они публиковались вместе. И, надо полагать, учитывая это «что ли», епископ Михаил вовсе и не знал, что должен что-то писать к сборнику стихотворений Клюева.
Я, пожалуй, соглашусь с Сергеем Куняевым в оценке личности Ионы Брихничева («человек мутный»). Но, по крайней мере, до «Новой земли» епископ Михаил его оценивал весьма высоко. Когда в 1909 году Иона Брихничев предпринял неудачную попытку покончить с собой, откликнулся статьей о нем в газете «Современное слово»:
«Брихничев – истинно живой религиозный деятель настоящего времени.
В нем не было прелюбодейства слова, общей болезни всех наших “учителей”.
Он не любил религиозных (философских) собраний, не писал статей “о правде распятой”, а жил живой правдой того живого христианства, которое принял.
Подлинного – протестующего христианства – не желающего принять этот мир не из аскетической брезгливости, а потому, что считает несовместимым с проповедью на горе и проповедью на Голгофе нашу наличную общественность»[34], то есть – современное общественное устройство.
Это другое время, и Брихничев еще не кажется «мутным». А оценка, что и говорить, высокая. Но время шло.
Отношения Клюева и епископа Михаила с Брихничевым обрываются не то чтобы одновременно, с разницей в год. Брихничев обвинял Клюева в плагиате и разослал по «нужным адресам» пасквиль «Новый Хлестаков», причиной могла послужить их размолвка (назовем так) из-за брихничевской статьи «Северное сияние» о Клюеве. О причинах отхода епископа Михаила можно, как я уже сказал, только догадываться. В самом начале августа 1911 года епископ Александр (Богатенков), довольно заметный старообрядческий церковный деятель, получил от Михаила письмо, в котором тот, в ответ на просьбу приехать в Москву, упомянул среди прочего: «…Я сейчас не имею даже и представления, где и что делают г[олгофские] христиане»[35]. Иначе говоря, никакой связи с «Новой землей» у него не было почти полгода.
У каждого из голгофских христиан было свое голгофское христианство. У Клюева, у Свенцицкого, у епископа Михаила, у Брихничева. Общим у них было, выражаясь клюевскими словами, «неприятие казенного бога», идея о необходимости социального переустройства на христианских началах, идея добровольной нищеты, покаяния. Голгофское христианство звало к активному противлению общественному злу. А люди в этом кружке были совершенно разные. Свенцицкий – последовательный новообрядческий священник, Михаил – последовательный старообрядческий епископ, Клюев – христианский эклектик и мистик с особым, ему, наверно, одному присущим веропониманием, Брихничев, однокашник И.В. Джугашвили (Сталина) по Тифлисской духовной семинарии, лишенный сана священник, пришел в конце концов к атеизму. Квинтэссенция голгофского христианства – идея всеобщей вины, активная «брандовская» борьба против общественного зла земной жизни и ее евангельское преображение, предполагающее радикальные социальные перемены, это готовность страдать от существующего в мире несовершенства, это новые отношения к собственности. У каждого христианина должна быть своя собственная Голгофа. Если одним-двумя словами, это – христианский максимализм, в том прямом смысле, в каком это слово толкуется в словарях: «чрезмерность, крайность в каких-либо требованиях, взглядах». И здесь я бы согласился со словами одной из статей Петра Бернгардовича Струве, с его оценкой максимализма:
«Я думаю, что максималистом человек может, вернее, имеет право быть только для себя и внутри себя. Всякая же проповедь максимализма, адресованная к другим, есть догматическое изуверство морального или иного деспотизма, если, что еще хуже, она не покрывает собой лицемерия.
Но и для себя, или внутри себя, человек не может, не уродуя себя и не насильничая над другими, быть максималистом всегда и сплошь. Максимализм законен только как одно из настроений в творческой борьбе за свою личность»[36].
Потому-то государство, основанное на максимализме Нагорной проповеди с ее любовью к врагам, – невозможно и обречено. Голгофское христианство было дон-кихотством. Но ведь епископ Михаил сам писал в одной из статей, стараясь поставить «диагноз» своей эпохе, обществу: «Христианство точно одряхлело, обветшало в нас», и продолжал: «Христианство без активности, без подъема, без “дон-кихотства” – немыслимо». Это – «религия действия и влюбленности в жизнь»[37].
*
После неудачного самоубийства в 1909-м, когда Иона Брихничев забрался на верхнюю палубу парохода и бросился в воду, но был спасен подоспевшими лодочниками, он прожил ни много ни мало почти шестьдесят лет и упокоился в марте 1968-го.
О нем имеется небольшая статья в биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917»[38]. Голгофское христианство по-прежнему остается малоизученным явлением духовных исканий начала ХХ века, несмотря на то, что и затрагивается в некоторых научных работах. В «Православной энциклопедии» статьи о нем нет. Есть о Брихничеве, со странной сентенцией, что он, «находясь под сильным влиянием старообрядческого епископа Михаила (Семенова), вместе с С.И. Гусевым-Оренбургским создал религиозно-политическое движение “голгофских христиан”, провозгласившее самопожертвование (“Голгофу”) единственным путем к спасению и призывавшее к радикальной реформе церкви и разрушению существующего государственного строя»[39]. Ну, Сергей Иванович тут и рядом не стоял, а Брихничев был вполне самодостаточным в своих взглядах человеком, сами же идеи кружка поняты шиворот-навыворот – прямо большевики какие-то собрались, «разрушители России».
Епископ Михаил странным образом не замечается. Он нем писали В.В. Розанов, Д.В. Философов, З.Н. Гиппиус, М.М. Пришвин, несправедливо преданный сегодня забвению писатель, публицист и путешественник Степан Семенович Кондурушкин, даже В.И. Ленин в 1912 году отозвался с критическим отзывом на одну из его статей, которую встретил в газете «Речь»[40]. Метафоричную, но, кажется, довольно точную характеристику дал его публицистике Д.С. Мережковский: «Когда читаешь, думаешь, зачем он пишет? Его нет в словах. Но вот за словами – горящий дух. И горит он именно тем, чем надо, – одной мыслью, одним чувством, одной волей: Земной Христос»[41]. Издательство «Советская энциклопедия», выпуская первый том словаря «Русские писатели. 1800–1917», оговорилось, что не претендует на полноту охвата лиц, принимавших какое бы то ни было участие в литературном процессе. Имя епископа Михаила в словаре отсутствует, между тем, его наследие вполне соответствует многим заявленным критериям: идейно-эстетическая значимость произведений – налицо, активность участия в литературной жизни, кружках (в нашем случае это Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге и кружок Голгофских христиан, участники которого в словарь-то попали), историко-литературная характерность. Будучи иеромонахом, владыка Михаил написал интересную драму, посвященную Ивану Грозному (и не ее одну, и было бы интересно, если бы кто-то их поставил). Выступал как публицист, литературный критик (писал о А.С. Хомякове, И.С. Никитине, Н.В. Гоголе, Л.Н. Толстом, Д.С. Мережковском, В.В. Розанове, Л.Н. Андрееве, В.Г. Короленко, А.П. Чехове, С.И. Гусеве-Оренбургском, А.М. Горьком, В.М. Гаршине, М.П. Арцыбашеве, С. Елеонском (С.Н. Миловском), Генрике Ибсене, о детской литературе и значении книги, отзывался на выход литературных сборников, о многих других своих современниках) и, если угодно, писал как театральный критик. Ему принадлежит статья «О принципах нового театра» с подзаголовком «Письма К.С. Станиславскому» в журнале «Театр и искусство» (1909 год) с разбором многих спектаклей того времени, вплоть до оформления декораций, статьи о драмах Л.Н. Андреева, напрочь забытого ныне А.И. Косоротова (но включенного в упомянутый словарь «Русские писатели»). Более того, успел написать и о тогдашнем кино![42] Очевидно, он продолжает восприниматься узко, лишь как старообрядческий деятель, что автоматически выносит его за пределы изучения и литературной жизни, и шире – русского духовного и национального самосознания и духовно-эстетических исканий начала ХХ века.
3
Я лось, забредший через гать
В подвал горбатый умирать.
Николай Клюев
Хочу сделать несколько штрихов к последним годам жизни Николая Клюева.
В мае 1934 года он прибыл к месту ссылки в Колпашево.
Мне вспоминается в этой связи письмо старообрядческого епископа Иоанникия (Исаичева) Саратовского и Астраханского. Мне оно встретилось в архиве митрополии Московской и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ), который десять лет назад поручено было мне разбирать. В зиму с 1931 на 1932 год он прошел этой же дорогой, что и поэт, и испытал то же: «Край голодный и холодный, Сибирь. Ехал до места ссылки 50 дней, 40 дней по железной дороге, в скотских вагонах, не видя вольного света, а десять дней пешком от Томска 300 верст. Тяжело было все это переносить. Многие померли в пути от голода и холода»[43]. Такой вот маленький штрих. Письмо опубликовано в альманахе «Во время оно», объединяющем документы по истории старообрядчества, главным образом, ХХ века.
Они не встречались. Кривошеинский район Томского округа (по тогдашнему административно-территориальному делению), где находился в ссылке Иоанникий, это намного ближе к Томску, чем Колпашево, куда сослали Клюева. Но я лишь хочу привести свидетельство, что значила подобная дорога: в вагоне, на подводе и пешком, с ночевками в пути. Ведь в разное время она была у них одна, у старообрядческого архиерея и поэта. В Колпашеве жил в ссылке другой старообрядческий епископ – Арсений (Давыдов) Минусинский и Семипалатинский, но уже после Клюева, которому удалось через несколько месяцев вернуться в Томск. Общее у них – месяц и год смерти. Епископ Арсений был вторично арестован в Колпашеве и 3 октября 1937-го расстрелян, Клюев – в двадцатых числах.
Есть трогательное письмо поэта Н.Ф. Христофоровой-Садомовой от 24 октября 1934 года, он рассказывает, как постучал «в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города (Томска. – В.Б.) – в надежде выпросить ночлег Христа ради». Ему открыл «средних лет, бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек – приветствием “Провидение посылало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали”. При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принес валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдание, разделся и улегся, – так как хозяин ни о чем не расспрашивал, только просил меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде – черный хлеб…» Дальше Клюев рассказывает, как нашел в своем мешке «желтый кружочек пятирублевой золотой монеты»[44].
Он воспринимал все это как чудо. Но, кажется, подготовлено оно было еще в Колпашеве. Иоанникий, например, жил в ссылке на квартире у старообрядцев-беспоповцев, «наших (поповцев. – В.Б.) здесь нет во всем этом малолюдном крае, кроме г. Томска», как он сообщал в том же письме, что приведено выше. И Клюева, кажется, кто-то направил сюда, кто-то «свой», не «провидение». В Томске поэт поселился среди старообрядцев, и, я думаю, заранее знал, куда ему здесь идти, а не стучался в первый же дом наугад. Но как был выбран именно этот адрес, этот переулок Красного Пожарника?
В том же архиве старообрядческой митрополии встречались письма из Томска, от тамошней старообрядческой общины, уже послевоенных лет. Мне тогда же запомнилось это несколько странное название переулка на синем делопроизводственном штампике – Красного Пожарника, где располагался дом №2, адрес, по которому была зарегистрирована община. Слово «пожарник» считается не очень-то приличным среди пожарных (именовать людей этой профессии можно только так – пожарный). Видимо, в 1920-х годах, когда этот переулок так нарекли, подобной отрицательной коннотации не было.
Клюев с 11 октября 1934 года по конец декабря 1936-го жил здесь же, в деревянном доме №12.
Один томский краевед сообщил мне, что в доме №2 жил старообрядческий епископ Тихон (Сухов) Томский. Но как проверить? От переулка Красного Пожарника недалеко до томского старообрядческого храма. В биографиях поэта указывается, что он там бывал, как и в других церквях города, в том числе единоверческой. Можно было бы добавить, что в старообрядческом храме его привлекала архиерейская служба, но с февраля 1933-го епископ Тихон находился в заключении, встречаться они не могли, даже видеться.
Сибирский историк Николай Старухин сделал по моей просьбе запрос в Государственный архив Томской области, принадлежал ли дом №2 старообрядческой общине в 1930-е годы, кто в нем жил. Удалось установить, что – да, томская старообрядческая община была зарегистрирована по переулку Красного Пожарника, в соответствии с новым советским законодательством, в 1925 году. Как говорится в письме, полученном нами за подписью директора архива А.Г. Караваевой: «Самые ранние документы о деятельности старообрядческой Успенской церкви, отложившиеся в фонде Ф.Р-1786 («Уполномоченный Совета по делам религии при Совете Министров СССР по Томской области». – В.Б.) – за 1957 г. В деле № 59 “Документы о деятельности старообрядческой Успенской церкви (отчеты, акты, переписка) за 1957–1962 гг.” данного фонда имеется “карточка зарегистрированного религиозного общества старообрядческого культа”, в которой значится адрес регистрации: г. Томск, улица Красного Пожарника, № 2, а также дата регистрации: 30 июня 1925 г.»[45] Епископ Тихон (Сухов) как проживающий в этом доме в документах не значится. Был ли он соседом Клюева (все-таки пять домов – не такое уж далекое расстояние), до конца неясно. Но ясно, что «религиозное общество старообрядческого культа» по переулку Красного Пожарника, дом №2, прошло официальную регистрацию. Поэт тянулся к людям, которыми как-то мог быть понят и на помощь которых надеялся.
Я пытаюсь лишь прикоснуться к окружению Клюева в Томске, о котором он не сообщал в письмах из ссылки. Что касается дома №2 по Красному Пожарнику, томские архивисты сумели назвать тогдашних его жильцов: «В результате просмотра описей дел фонда муниципального учреждения “Бюро технической инвентаризации” управления жилищно-коммунального хозяйства г. Томска (МУ БТИ) (фонд Ф.Р-1860) был выявлен технический паспорт на домовладение по переулку Красного Пожарника, д. 2, за 1938 г., просмотр которого показал, что домовладельцем с 1933 г. значится Пахомова Наталья Моисеевна. Как указано в описании строения: дом одноэтажный, деревянный, жилой, частный, построен “около 40 лет тому назад”[46]. В акте от 28 марта 1940 г., составленном техником бюро регистрации текущих изменений Томского горкомхоза Комаровым при камеральной обработке, в графе “на право владения усадьбы № 2 по пер. Красного пожарника” значатся Груздев, Пахомов, Зилович, без указаний имён и отчеств»[47].
Указание на фонд «Бюро технической инвентаризации» важно, с ним можно работать дальше, уже конкретно по клюевскому дому №12. Выявленные документы могут послужить для экспозиции музея поэта.
Он нужен.
Этими словами – «Он нужен», я закончил статью. Оставалось внести мелкие уточнения и поправки. Что-то подтолкнуло меня пересмотреть в архиве Митрополии Московской и всея Руси РПСЦ старое дело послевоенных лет – переписку с томской общиной, которую, среди множества других подобных бумаг, разбирал я лет семь или восемь назад, раскладывая документы в хронологическом порядке, нумеруя карандашом листы в правом верхнем углу. Дело это включено было в опись фонда №3, объединившего документы 1940-х и самого начала 1950-х годов, и получило порядковый номер 433. Даже руки немного дрогнули, когда достал эту старую коричневую папку с железным скоросшивателем внутри: на обложке приклеена была тогдашним секретарем архиепископии (нынешняя митрополия была учреждена в 1988 году) прямоугольная бирочка из тонкой бумаги с адресом священника: «С/Ачинская, 13». То есть, Старо-Ачинская улица – последний адрес Клюева, где квартировал он перед самым арестом в 1937-м.
Во второй половине 1940-х священники Успенской старообрядческой церкви в Томске быстро менялись, так как все они были людьми приезжими, жили кое-как и кое-где, у тех, кто были судимы по 58-й статье, возникали сложности с пропиской, община подчинялась напрямую далекой Москве, епископа в Сибири не было. С 1947 года появляются два адреса, по которым ведется переписка: переулок Красного Пожарника 2 и 12. Два дома связаны друг с другом. Там, где поселился когда-то Клюев, снимал после войны жилье томский старообрядческий священник Ермолай Красилов. Священническое определение он получил в апреле 1949-го, но вскоре оставил Томск и по каноническим причинам прекратил служение. Листаю дело дальше. Перед глазами проходят телеграммные бланки, отпечатанные на пишущей машинке через копировку письма, тетрадные листики в линейку и в клетку самой разной величины, с такими каракулями, что прочесть их едва ли возможно без особого навыка, вот уже знакомый синий штамп, и не один, двойка, номер дома, не везде отпечаталась на нем. Фамилий Груздев, Пахомов, Зилович, Балакины (хозяева последней квартиры Клюева) нет. Но вот – лицевая сторона темно-синего конверта, где, кроме типовой красной марки с гербом, еще одна, зеленая, в нижнем левом углу, достоинством в 60 копеек с изображением медали «За оборону советского Заполярья», две круглых почтовых печати, и от руки, под чернильной чертой размашистым почерком обратный адрес клюевского дома: Красного Пожарника, 12. Здесь квартирует уже новый священник, с ноября 1951 года, Петр Коротков. Следом его письмо, позволяющее определить дату. Сообщает, что устраивается в городе, оформляет прописку, посетил уполномоченного Совета по делам религиозных культов. А в апреле 1952-го ему пишут из Москвы, из архиепископии, на другой адрес: Старо-Ачинская, 13. Он отпечатан на машинописных копиях последних писем.
В Томске сотни улиц и тысячи домов. Но человек последовательно селится в двух местах, и именно там, где до него жил Клюев! Ему, приезжему, безусловно, помогала старообрядческая община, тогда кто Клюеву, раз одни и те же адреса? Еще один томский адрес поэта, Мариинский переулок 38, кв. 2, не упоминается. Но от Красного Пожарника это – два шага, достаточно посмотреть на карту Томска. И Старо-Ачинская недалеко.
Клюев не покидал старообрядческого района (хотя жили в нем не только одни старообрядцы, одним из его ближайших соседей по переулку Красного Пожарника, как указывает Л.Ф. Пичурин, был протоиерей томской церкви Иоанна Лествичника Иван Григорьевич Назаров, живший с семьей в доме №8, сосланный сюда из Пскова, они проходили с поэтом по одному делу).
Совпадение очень любопытное, и все-таки, пусть и улавливается здесь некоторая закономерность, выводы преждевременны…
В одном из писем Клюев упоминал, что хозяин дома на Красного Пожарника – старик-жестянщик со старухой. Здесь поэт снимал угол. Никакого уединения. Столпотворение и сумятица. «Приходят в голову волнующие стихи, но записать их под лязг хозяйской наковальни и толкотню трудно» (из письма В.Н. Горбачевой). О том, как Клюев нищенствовал и побирался, тоже известно по его письмам. Это сплошная скорбь, его жизнь… Потом появилась переборка, отделявшая его угол от общей комнаты. Отсюда он перебрался в дом по Мариинскому переулку, долго проболел и съехал, так как не мог платить, а художник и близкий друг поэта Анатолий Яр-Кравченко не выслал обещанных денег. Следующим томским адресом стал дом на Старо-Ачинской, 13. Здесь вместе с Клюевым жили новообрядческий священник Троицкой церкви Иаков Леонтьевич Соколов с супругой, хозяева Сергей Васильевич Балакин и его мать Мария Алексеевна, еще один священник Александр Иванович Пуртов с женой Татьяной Матвеевной и четырьмя дочерями, сельский учитель Иван Григорьевич Мельников, всего 12 человек[48]. И.Г. Мельников, А.И. Пуртов, Я.Л. Соколов арестованы были в 1937 году по одному делу вместе с Клюевым.
Всех расстреляли.
Вспоминается мне один очерк Василия Розанова, «По тихим обителям». Есть там эпизод, где Василий Васильевич рассказывает, как ехал в Саров. «Ямщик, который вез меня, добросовестный огромный мужик, кормящий стариков, отца и мать, и четверых детей, работал года четыре назад каменную работу… в Темир-Хан-Шуре!! Вон куда заносит нужда. Значит, русский мужик не ленив, значит, он ищет! Отхожие промыслы есть великий показатель, что мужик наш не лежебока». Я перепроверил, что это за город, упомянутый здесь. Оказалось, старое название Буйнакска, Дагестан.
Нет, не только нужда заносит людей в несусветную даль. Клюевский путь был еще дальше, от Архангельска до Томска и Колпашева, священник Петр Коротков, который жил в одних домах с поэтом, лет через восемь или девять переехал в Джамбул (Казахстан), и тут я не уточняю причин, так как это совсем другая уже история, а они могут быть сугубо семейными... А переселение старообрядцев семейских с территории нынешней Гомельской области Белоруссии в Забайкалье? У нас и русский народ, оказывается, тоже подвергался депортациям. А мы не знаем. Не замечаем даже, что уже которое столетие воюем сами с собой.
[1] Мельников П.И. Отчет о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии // Сборник в память П.И. Мельникова (Андрея Печерского). Нижний Новгород., 1910. Ч. 2. С. 240.
[2] Там же. С. 238–239.
[3] Там же. С. 241.
[4] Цит. по: Куняев С.С. Николай Клюев М., 2014. С. 164–165.
[5] Горький М. Письмо П.Х. Максимову от 10 (23) декабря 1910 г. // Горький М. Собрание сочинений. М., 1954. Т. 29. Письма, телеграммы, надписи. 1907–1929 гг. С. 148.
[6] Это верно заметил А.М. Эткинд: «Один ушел из высокой культуры символистов в сектанты; другой (Клюев. – В.Б.), наоборот, пришел из сектантов в профессиональные поэты. Один, опрощаясь, отказался от рифм и ритма, чтобы сблизить свой слог с “природой” сектантских распевцев; другой, напротив, преобразовал знакомый ему хлыстовский фольклор в профессиональные стихи. Один обращал к интеллигенции письма, наполненные горечью, агрессией и желанием разрыва. Другой надеялся на диалог». См.: Эткинд А.М. Хлыст. М., 2013. С. 272.
[7] Надо, кроме этих стихов, помнить, как побросала по свету судьба самого поэта: Азия и Персия, Россия, Европа, Америка.
[8] 1880 год, август, в «Объяснительном слове по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине».
[9] Карташов А.В. Очерки по истории русской Церкви. М., 1992. Т. 2. С. 179. Разрядка А.В. Карташова.
[10] Была переведена с французского внуком Л.Н. Толстого Сергеем Сергеевичем Толстым по заказу Московской старообрядческой архиепископии в 1950-х годах. Вышла в свет только в 2010-м в московском издательстве «Знак».
[11] Зенин Н.Д. Взгляд М.Д. Скобелева на старообрядцев (казаков) // Старообрядческая мысль. 1911. №9. С. 736–737.
[12] Об этой Блоковской интерпретации стихотворения см.: Эткинд А. Хлыст. М., 2013. С. 282.
[13] Подробнее об этом см. в моей статье “Что такое старообрядчество и как нам его изучать?» (Старообрядчество: История, культура, современность. М., 2015. Вып. 15. С. 11–16.
[14] Письмо А. Ширяевцу цит. по: Куняев С.С. Указ соч. С. 169.
[15] Куняев С.С. Указ. соч.
[16] Солнцева Н.М. Китежский павлин. М., 1992. С. 46–47.
[17] Михаил (Семенов), иером. Христос на Голгофе и воскресший // Миссионерское обозрение. 1902. № 7–8. С. 16.
[18] Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: «Республика» (сер. «Мыслители ХХ века»), 1994. С. 193.
[19] Ницше Ф. Черновики и наброски 1880–1882 гг. // Ницше Ф. Собрание сочинений: В 13 т. М., 2013. Т. 9. С. 72.
[20] Свенцицкий В. Религиозный смысл «Бранда». СПб., 1907: Библиотека «Век». Вып. 8. С. 4, 5.
[21] Религиозные искания наших дней // Красный звон. 1909. №5. С. 248–249. Подзаг.: «Мнение архимандрита Михаила».
[22] Михаил (Семенов), архим. Двенадцать писем о Христе подлинном // Церковно-общественная жизнь. 1907. №31. Стб. 941–944; №32. Стб. 978–981; №33. Стб. 1008–1011; №34. Стб. С. 1035–1038; №35. Стб. 1074–1079; №38. Стб. 1169–1173; №41. Стб. 1263–1266; №43. Стб. 1328–1331; №44. Стб. 1365–1367; №43. Стб. 1389–1392.
[23] Михаил (Семенов), архим. Двенадцать писем о свободе и христианстве // Красный звон. 1908 №7. Раздел II. С.161–176; №8. С. 161–178; №9. С. 161–176.
[24] См.: Михаил (Семенов), еп. Кто и зачем испортил христианство? // Слушай, земля. 1909. №5. С. 12–14.
[25] Швейцер А. Религия в современной культуре // Швейцер А. Жизнь и мысли. М.: «Республика» (сер. «Мыслители ХХ века»), 1996. С. 483.
[26] Иона Брихничев посвятил одну из своих статей этому событию: Отклик на арест еп. Михаила // Новая Земля. 1911. №18, май. С. 3. Следующий, девятнадцатый, номер газеты вышел с портретом еп. Михаила на первой полосе.
[27] Михаил (Семенов), еп. Из креста в огонь: К 14 сентября // Новая Земля. 1910. №1 от 13 сентября. С. 8–11.
[28] Под «упряжками» имеются в виду главнейшие, по мнению Толстого, моральные заповеди Евангелия. Еп. Михаил неоднократно выступал против сведения Евангелия к голой морали. «Тот, кто не верит в возможность явлений, превышающих нормы будничной действительности, тот уничтожает в человеке стремление к бесконечному движению.
И обязательно убивает христианство, делая его из религии беспредельного совершенствования по образу Божию в серую религию “пяти упряжек”, без идеала, без будущего, убогую и мертвую» (статья «Толстой и чудо»).
[29] Михаил (Семенов), еп. Христианство не мораль // Новая земля. 1910. №4, октябрь. С. 10–11.
[30] Брихничев И. Отклик на арест еп. Михаила // Новая Земля. 1911. №18, май. С. 3
[31] Постановления Освященных Соборов старообрядческих епископов. 1898–1912 гг. М., 1913. С. 121.
[32] См. в современном издании: Михаил (Семенов), еп. Собрание сочинений. Ржев, 2015. Т. 4. С. 163–176. В заглавии статьи – старообрядческая орфография имени Спасителя – Исус с одним «и».
[33] Клюев Н.А. Письмо А.А. Блоку, февраль – март 1912 г. // Клюев Н.А. Письма к Александру Блоку. М., 2003. С. 262.
[34] Михаил (Семенов), еп. Иона Брихничев: Открытое письмо «христианам» // Современное слово. 1909. №601 от 16 августа. С. 1 Подпись – Старый Друг. Это событие произошло после закрытия ряда изданий, которые выпускал Иона Брихничев. Кроме того он страшно нуждался, живя, как указывает автор, на 50 рублей в месяц с семьей.
[35] Пользуясь случаем, приведу это письмо (оно хранится в частном архиве), еще не введенное в научный оборот, полностью, датируется оно благодаря пометке в правом верхнем углу, сделанной еп. Александром: «Пол[учено] в СПб. 2 авг[уста] 1911»:
Г. I. Х. С. Б. п.н.
Глубокоуважаемый владыко.
Я думаю, что в Москву мне ехать неудобно, ведь и в 1909 году испрашивалось особое Высочайшее разрешение, а это неудобно, и желательно проехать куда-нибудь около Москвы – конечно, можно бы, и препятствий с моей стороны не может встретиться, но ведь мне нужно знать, зачем, с какой целью ехать.
Нужно получить формальное приглашение, из которого я увидел бы, нужно ли действительно мое присутствие там.
Сейчас я не представляю, для чего бы мне ехать? Если оправдываться в чем-нибудь, то это надоело мне.
Если это старые обвинения по поводу голгофских христиан, то я сейчас не имею даже и представления, где и что делают г. христиане.
Если какие-нибудь новые обвинения, выкопанные из старых книг, то ради этого не хочется тратить время и слова. Да и бесполезно. Может быть, дело идет не о суде надо мной, но могу ли я быть полезен Собору в чем-нибудь, доверие ко мне и с моей стороны достаточно подорвано.
Во всяком случае, приехать я мог бы [по] формальному приглашению, из которого было бы ясно, зачем я еду.
Преданнейший еп. Михаил.
[36] Струве П.Б. На разные темы // Струве Б.П. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 215. О крайностях «голгофского христианства» и епископе Михаиле см. также в статье Д.С. Мережковского «Земной Христос».
[37] Михаил (Семенов), еп. Рождественская звезда // Утро России. 1910. №335 от 25 декабря. С. 2.
[38] Магомедова Д.М., Белодубровский Е.Б. Брихричев Иона Пантелеймонович // Русские писатели. 1800 – 1917. М., 1989. Т. 1. С. 328 – 329.
[39] О.Т.Е. Брихничев Иона Пантелеймонович // Православная энциклопедия. М., 2003. Т. VI. С. 258.
[40] См.: Ленин (Ульянов) В.И. Духовенство и политика // Полное собрание сочинений. М., 1973. Т. 22. С. 80–81. Отклик на статью «Предпоследний и последний этапы» (Речь. 1912. №230 от 23 августа. С. 1), посвященную роли духовенства в современном обществе, его социальной позиции.
[41] Мережковский Д.С. Земной Христос // Мережковский Д.С. Было и будет. Невоенный дневник. М., 2001. С. 145.
[42] См. статью «Чудеса на полотне» (Современное слово. 1909. №575 от 17 июля. С. 1. Подпись – Старый Друг). Тема – низкопробная и пошлая кинопродукция. Упомянуты Ф.К. Сологуб (сб. легенд и новелл «Книга очарований». СПб., 1909), издатель И.Д. Сытин.
[43] Иоанникий (Исаичев), еп. Письмо архиепископу Мелетию (Картушину) // Во время оно: История старообрядчества в свидетельствах и документах. 2005. Вып. 1. С. 88.
[44] Цит. по: Куняев С.С. Указ. соч. С. 601.
[45] ГАТО (Государственный архив Томской области). Ф.Р-1786 Оп. 1. Д. 58. Л. 4. Эта и следующие архивные ссылки указаны согласно письму, о котором идет речь в статье.
[46] ГАТО. Ф.Р-1860. Оп. 5. Д. 3499. Л. 4–4 об.
[47] ГАТО. Ф.Р-1860. Оп. 5. Д. 3499. Л. 5.
[48] Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Режим доступа: http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/cnt/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTcGUse0EdO0Ve8icse1ae8Vy9WslCHMpTcGZeu-yPrFf9X2lBLsxDbtjR4giAH2p**