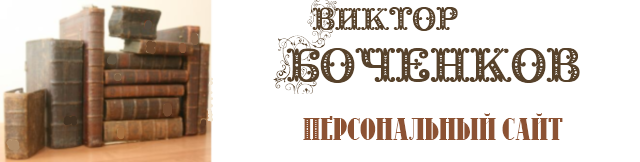«Знакомить русских с Россиею ...»
П.И. Мельников — редактор «Русского дневника»
«Поденные записки» — так определял Владимир Иванович Даль, близкий друг П.И. Мельникова, слово «дневник» в своем словаре. «Русский дневник» — газета, которую редактировал писатель в первой половине 1859 г. То была особая страничка в его биографии, в его редакторской деятельности. Об этом и пойдет речь.
В объявлении об издании, вышедшем отдельной листовкой на двух страницах, П.И. Мельников писал: «В настоящее время, когда все заботы государя императора, вся дума народа русского преимущественно обращены на внутреннее состояние государства, во всех слоях нашего общества обнаружилось жаркое стремление к истинному познанию родной страны»[1]. Следовательно, время «Русского дневника» пришло. Газета была собственностью нескольких лиц, поэтому П.И. Мельникова правильнее называть не издателем, а редактором.
В октябре 1858 г. цензура разрешила публикацию объявления, а с января следующего года с «Русским дневником» начала знакомиться читающая публика страны. Целью газеты было «представлять внутреннее состояние России в верном свете и со всевозможною быстротою и точностию сообщать публике известия о всех происшествиях, случающихся на обширном пространстве Русского Государства. И между жителями столиц, и других средоточий русской общественной жизни, и в скромных обществах маленьких уездных городов, и в усадьбах помещиков, и в среде мира торгового и промышленного — повсюду распространилось в последнее время желание иметь газету, которая, знакомя русских с Россиею, также подробно извещала бы о событиях внутренних, как подробно другие газеты сообщают о событиях заграничных»[2].
В октябре 1858 г. П.И. Мельников отправляет письмо критику Михаилу Федоровичу Де-Пуле: «Вы поняли цель “Дневника”, цель, которую желал я, по особым причинам заявить в объявлении, цель, до которой прежде надо было идти осторожно, робким шагом, но неуклонно. Сразу всего сделать нельзя, на все нужно время, время и время с достаточным запасом терпения. История древняя, средняя и новая не представляет ни одного такого хаотического явления, какова петербургская цензура. Она нельзя сказать чтобы строга, нельзя сказать, чтобы придирчива, она просто взбалмошна — сегодня одно, завтра другое. Да чего лучше, вот Вам образец нынешней последовательности ее действий: в одно и то же заседание Гл[авного] управления запрещают все без исключения мои сочинения (напечатанные из них два-два раза цензурированные, и одно прошедшее через цензуру 1852 года) за резкий тон “Медвежьего угла”, и разрешают издание газеты»[3]. Далее в письме П.И. Мельников заявлял о цели газеты: «Но, несмотря на эту хаотичную ералаш, я пойду неуклонно к цели сделать “Р.Д.” докладчиком о нуждах и потребностях всякого по возможности уголка России и о средствах к их удовлетворению. Пора перестать дремать». Писатель был убежден: из Петербурга нельзя увидеть, что происходит по стране, это возможно, если живешь в провинции, и он верил, что везде есть люди, способные доставлять необходимую корреспонденцию. «Но фимиам губернаторам не допущу в этих известиях, а если допущу, то о действительно полезном человеке. По занимаемой мною должности — я знаю, я знаю их всех вдоль и поперек, хотя некоторых и в глаза не видывал»[4].
Итак, газета была необходима, чтобы «знакомить русских с Россиею». Он-то, Павел Иванович, уже поездил по ней вдоволь, повидал, посмотрел, познал величие и слабости... Еще в юности были у него честолюбивые замыслы создать панораму провинциальной жизни в России, когда он разрабатывал по отдельным главам свой незавершенный роман «Торин». В письме от 15 сентября 1840 г. он писал А.А. Краевскому из Нижнего Новгорода: «Цель всего “Торина” показать общественную жизнь в провинциях Руси: “Ивановская красавица” покажет жизнь в губернских городах первого разбора, т. е. в подобных Казани, Нижнему, Ярославлю; “Звезда Троеславля” жизнь в городах, подобных Вятке, Перми и пр., удаленных от центра цивилизации и образованности; “Он ли это?” — жизнь в уездных городах первого разбора, то есть в подобных Арзамасу, Мурому, Самаре, Волжску; “Матренушка” и “Елпидифор” — жизнь в маленьких уездных городах, а “Уездная жизнь” — жизнь в деревне»[5].
Но прошло восемнадцать лет. Конец 1858-го. Работа кипела. П.И. Мельников продолжал привлекать авторов. Написал в Воронеж поэту Ивану Саввичу Никитину, в Саратов романисту-историку Даниилу Лукичу Мордовцеву, позднее завяжется переписка с писателем Григорием Петровичем Данилевским, жившим тогда под Харьковом. Письмо Н.А. Фирсову — пермскому интеллигенту, который готовил к печати альманах «Пермский сборник»: «...Заведывая редакцией “Пермского сборника”, Вы легко можете представить себе, сколько хлопот, суеты и труда выпало на долю редакции ежедневной газеты, в особенности в первые дни ее появления. Я решительно не имею ни минуты свободной, чтобы ответить на все получаемые в значительном числе письма». И извиняясь за молчание, писатель продолжал: «Программа, как видите, широкая; поле обширное — для всякого благонамеренного и любящего родину человека. Правда, правда и стремление вперед, — вот желание “Русского дневника”. Присылайте статьи, ради Бога присылайте. Я решаюсь убедительно просить Вас об этом, не ради выгоды и пользы “Русского дневника”, но ради общей пользы, ради самого дела, в котором нужно общее содействие»[6].
Совсем недавно в статье «Несколько слов о русском воззрении» (1856 г.) К.С. Аксаков писал: «Народное воззрение есть самостоятельное воззрение народа, при котором только и возможно постижение общей всечеловеческой истины. Как человек, не имеющий своего мнения или воззрения, не имеет никакого; так народ, не имеющий своего мнения или воззрения, не имеет никакого (следовательно, бесплоден и бесполезен)». «В чем выразится и какое будет русское народное воззрение?» — спрашивал он и отвечал: «Это вопрос другой, о котором здесь еще нет речи. Ответом на то могут служить самые дела или факты: т[о] е[сть] труды, подвиги, мысли и издания умственные и жизненные народа. Но как скоро будет, наконец, самостоятельное русское воззрение, то оно и выразится. Впрочем, предварительно можно сказать, что во всех тех сферах и обнаружениях, где является сам русский народ, — это воззрение может, хотя отчасти, быть указано (напр[имер], общественный быт народа, язык, обычаи, песни)»[7].
Во многом мог бы П.И. Мельников согласиться с К.С. Аксаковым. Общественный быт, язык, обычаи. «“Русский дневник”, имея главнейшею целию знакомить публику с событиями в России и с положением ее во всех отношениях: статистическом, этнографическом, экономическом и проч., найдет, однако, на листках своих место и для статей по всем отраслям наук и искусств, а также и для произведений чисто литературных», — говорилось в объявлении об издании газеты[8]. Но К.С. Аксаков задавался и другим вопросом: каким образом может возникнуть самостоятельное «народное воззрение»? Его ответ: «Через освобождение себя от чужого умственного авторитета, через убеждение в необходимости и праве своей самостоятельности. Как скоро вы (обращаемся ко всем т[ак] называемым] образованным людям, принадлежащим к русскому народу) откинете воззрение заемное, то возникнет свое, если вы не лишены иметь его, чего допустить было бы невозможно. [...]
Великим вспоможением к освобождению от умственного плена, от подражательности и к очищению нашего самостоятельного воззрения, — служит древняя русская история, до известной подражательной эпохи, и современный быт народа, так называемого простого народа»[9].
Древней истории в «Русском дневнике» была, кроме разных статей, посвящена отдельная рубрика «Дневник отечественных воспоминаний», где перечислялись значимые для страны события, случившиеся много-много лет назад в тот же самый день, в который выходил тот или иной номер. Этнографическая тематика сразу бросается в глаза. Но основное — современный быт провинции, которой и жила Русь-Россия: анализ состояния промышленности, торговли, разная информация из губерний. Газета состояла из двух частей: официальной и неофициальной. «При составлении официальной части редакция обратит особое внимание на возможно подробное изложение правительственных распоряжений, как законодательных, так и административных, и в особенности по делам сословий: дворянского, городского и крестьянского, относящимся до прав состояний государственного благоустройства. Сюда же войдут и распоряжения правительства по общественному хозяйству городов, по торговле, промышленности, по городской и земской полиции, по народному продовольствию, общественному презрению, медицинскому управлению и пр.»[10]. В неофициальную часть входили «Внутренние известия» — сообщения и заметки «о пожарах, бурях, градобитиях, наводнениях, о появлении вредных насекомых, о повальных болезнях, скотских падежах, крушении судов, о преступлениях, о нечаянных смертных случаях, о вскрытии и замерзании рек, о необыкновенных явлениях природы, о состоянии погоды, о видах на урожай, о высоте воды в судоходных реках и, наконец, о всех происшествиях, выходящих из ряда повседневной жизни... Достаточно сказать, что кроме общего интереса для каждого любознательного читателя, известия эти по своей полноте и достоверности, представят драгоценный материал не только для учебной разработки специалистов, как, например, статистиков, но и для соображения лиц торгового и промышленного класса: первым известия будут служить существенным пособием в их научных выводах; последние найдут в известиях верные данные для основания, направления и развития своих предприятий», — гласило Объявление об издании[11].
Многие корреспонденции этого раздела — бытовая фиксация, вал подробностей. Огромное значение в газете придавалось материалам, написанным очевидцами. Второй раздел посвящался наукам и искусству. Приоритет здесь отводился статистике, истории, этнографии и археологии. Популярными жанрами стали письмо и путевой очерк, способные объединить все эти науки. Что касается искусств, то тут редакция старалась «главнейше помещать статьи, которые бы сообщали публике подробную и беспристрастную оценку деятельности наших художников и артистов как в России, так и за границею»[12]. Третий раздел «Русского дневника» — словесность, то есть «повести, рассказы, путешествия и другие литературные статьи, имеющие преимущественною целию представить быт и нравы народа русского и инородцев, проживающих в России». Наконец, последний раздел, библиографические известия — критические разборы книжных новинок или статей. «Здесь редакция не лишним считает объяснить, что, не вдаваясь ни в какую полемику, она в этом отделе поставит себе единственною целию строгим, но беспристрастным разбром рассматриваемых ею сочинений содействовать по мере сил своих истинному познанию и основательному изучению России, ее умственной жизни и общественного быта»[13].
В четверг первого января 1859 г. в свет вышел первый номер «Русского дневника».
Надо сказать, что П.И. Мельникову удалось выполнить все, что он задумал и пообещал. Он реализовывал, с одной стороны, ту программу газеты, которую изложил в Объявлении о ее издании, а с другой — воплощал в жизнь славянофильские тезисы К.С. Аксакова, во многом совпадавшие с его собственными убеждениями: изучал «современный быт народа», открывал провинциальную Россию, ушедшую и современную. Газета формировала русское «самостоятельное воззрение».
«Русский дневник» писала вся Россия. Многие авторы не оставили своей подписи под статьями и заметками.
* * *
«Огромное значение имеет Ваша газета для России [...] Посылайте в наши темные захолустья больше света и жизни», — просил П.И. Мельникова учитель провинциальной духовной семинарии Николай Аристов[14].
Оставим в стороне статистику и этнографию. Провинция, провинция — печальные зарисовки ложились П.И. Мельникову на стол... Основная тема многих — гоголевская — пошлость, способная обезличивать человека и даже целый народ, если он поддастся ей и начнет копировать все иноземное (о, сколько уже было написано об этом!). Пошлость, она от отсутствия высоких стремлений, от духовной лени. От этого всего — «темные углы» или, если вспомнить мельниковский рассказ, медвежьи углы... «Русский дневник» выходил в эпоху, когда слишком много накопилось того, что нужно было высказать. Совсем недавно всколыхнули читающую публику «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, вышедшие несколько лет назад, в 1856-м, — серия ярких и точных картин провинциальной жизни. Критическое направление, отталкиваясь от традиций натуральной школы, набирало силу. Вообще, после поражения в Крымской войне, русское общество во второй половине 1850-х жило в атмосфере активной социальной самокритики. И «Русский дневник» дышал ею.
Как-то П.И. Мельникову пришло письмо из города Бирючь Воронежской губернии от некоего Н. Вертушкина, который с иронией описывает губернский центр: «Город довольно велик, население, как Вам известно, также довольно значительное, а заметных жителей почти нет, т.е. таких жителей, которые принимали бы участие в общественных удовольствиях, в общественной жизни. Все сидят взаперти, а что они там делают, — одному аллаху известно, если исключить выкраиваемые самою щедрою рукою сплетни. И до всякого, и до всех им дело. И за все про все сердятся. И за все про все отплачивают сплетнями. И на Вас самих, батюшка, негодуют. Да и поделом. Как же Вы в самом деле позволили какому-то Печаткину нападать на воронежских дам за их наряды. Что ж им делать, если и наряжаться нельзя!»[15].
Речь шла о корреспонденции, опубликованной в №63 «Русского дневника» за подписью «Николай Печаткин». Да, воронежским дамам досталось «на орехи»: «Милостивые государыни, успокойтесь, умерьте ваш гнев... и хладнокровно подумайте, чего стоили вам ваши выписанные из столицы костюмы и каких результатов чрез них вы достигли. Еще ли не пора образумиться и соразмерить свои прихоти со средствами. Пора обществу обновиться не внешностию, а внутренним преобразованием...»[16].
Николай Печаткин — это (теперь-то уж можно раскрыть псевдоним!) статский советник Петр Малыхин из Воронежа. Он горячо приветствовал «Русский дневник». «Мы, жители отдаленных от столицы городов, очень рады, что газета Ваша открывает свои страницы для провинциальных мелочей, на которых вертится жизнь разных уголков нашей широко раскинувшейся матушки России, чрез то дает нам возможность узнать, что и как творится в далекой глуши»[17].
Петр Малыхин-Печаткин рассказывал о гуляниях в городском саду, критиковал игру столичных актеров в воронежском театре, малосодержательные пьесы Коцебу и Кони. «Репертуар нашего театра очень беден и однообразен, а актеры большей частию люди посредственные, а иные даже вовсе бездарные в отношении к сценическому искусству, и только весьма немногие из них с талантом и исполняют свои роли удовлетворительно. Вот отчего мы, провинциалы, так падки ко всему заезжему к нам из столицы, так снисходительны к лицам, носящим титул артиста императорского театра. Но за то эти странствующие артисты словно обирают карманы доверчивых провинциалов, угощая их различными пустяками театрального балласта»[18].
А вот как воспринимались некоторые публикации и сама газета в Калуге. В № 105 «Русский дневник» опубликовал большую статью об организации продажи вина, о трезвости с именами конкретных лиц, довольно известных в городе. Она касалась Калуги. Редактор неофициальной части «Калужских губернских ведомостей», краевед, учитель гимназии П.С. Щепетов-Самгин сообщал П.И. Мельникову: «Вообще, известия из Калужской губернии в 105 № издаваемой Вами газеты произвели в Калуге такой фурор, преимущественно между купцами, какого не производила еще ни одна газета. 105 № “Русского] дневника” в нашем городе теперь трудно достать. В трактирах некоторые из читателей без церемоний вырывают те страницы, на которых помещены известия из Калуж[ской] губ[ернии], и уносят с собою. Так насолил всем откуп и казенная палата»[19].
Конечно, были и те, кто если и ругал отечественную действительность, то давал одновременно совет, как быть. Профессор орловской семинарии А. Поморцев (псевдоним — А. Розенкампф) был недоволен ярмарками, проводящимися в городе. «Для улучшения Орла необходимы не ярмарки, а другие, более действенные средства. Ярмарки только повредят Орлу, еще более развивая в жителях кулачество и торгашество — качества, которыми и теперь могут похвалиться орловцы и за которые они наказываются “проломленными головами”. По нашему мнению, нужно приучить народ к труду, нужно научить его работать. Взрослых и стариков уже не переделать, нужно приняться за этих несчастных детей, скитающихся по улицам с воплями о подаянии, нужно дать им возможность выучиться какому-нибудь ремеслу. [...] Один из лучших здешних купцов каждую субботу раздает милостыню и каждую субботу у ворот его дома толпятся сотни нищих. На брата едва ли достанется по копейке, за то сколько брани, толчков и побоев! Нет сомнения, что эта милостыня подается не по христианскому побуждению, ибо христианская милостыня любит тайну, а из пустого тщеславия. Не лучше ли, хоть из тщеславия, вместо этой никому не приносящей пользы милостыни, устроить училище, в котором могли бы бесплатно обучаться ремеслам маленькие нищие?»[20].
Однако не все было по России так темно, так беспросветно. Всегда были, есть и будут люди, дающие свет. Москвич Михаил Арбузов, живший «на Разгуляе рядом с гимназией», сообщал: «Я был 13 января в Великих Луках свидетелем довольно знаменательного случая: прощания городского общества с городничим Л.К. Шульгиным, девять лет управлявшим городом и ныне переведенным в разоренный пожаром Порхов, требующий опытного распорядителя для своего возрождения. Граждане дали приличный обед и преподнесли адрес за подписом ста семнадцати человек. В настоящее время гласности — сюжет довольно занимательный, тем более что это едва ли не первое в своем роде явление, которое может некоторым образом убедить публику, что городничий в “Ревизоре” Гоголя в наш век прогресса сделался более или менее анахронизмом. Статья об этом будет выслана с первой почтой, если пожелаете напечатать»[21].
Письмо за письмом, самый разный почерк: кривой, ровный, прыгающий, разный цвет чернил... Бумажные листки на столе писателя — как маленькие лоскутки, из которых складывалось в газете широкое полотно общественной жизни России.
Были в письмах и целые истории, со своим сюжетом, с интригой и конфликтом. Так, большое письмо прислал некто М. Блинов с Урала.
«На Урале новости редки, зато иногда идут полосой, одна вслед за другою - вроде того, как дожди в Вятке, об которых один мой знакомый говорил (когда я жил в Вятке): “У нас идет дождь день, идет два — а там уже и пойдут дожди”. Можно, конечно, то же сказать и об Урале: все идет тихо — вдруг случай, смотришь — за ним другой, а там уже и пойдут приключения.
1 мая случился пожар на монетном дворе, в отделении, где поставлены прорезные и гуртильные станки. Загорелись балки, пламя пробилось наружу, когда сняли крышу, но благодаря брандмауэрам пожар ограничился одним только отделением фабрики. Станки пострадали и в дело не годятся. О причинах пожара, как водится, велено произвести строжайшее исследование, и кажется, во всем виновата будет печка или труба, или балка, которую положили близко от трубы.
Только что перестали толковать о пожаре, как всех заняло другое обстоятельство: приезжал курьер из Петербурга к графу Амурскому и записал жалобу на Решотной станции — первой станции от Екатеринбурга по дороге в Пермь. Копия с жалобы ходит по рукам — и я посылаю ее Вам (не для печати, а так, ради курьеза, как у нас говорят). Вещь, если хотите, интересная. Вот она слово в слово.
“Почтовый тракт в Пермской губернии приведен в непроходимое состояние. Следуя осенью прошлого года курьером из Иркутска в С.-Петербург, я встречал на дороге толпы рабочих, сидящих без всякого дела. Пособляя моему ямщику вытаскивать повозку и надевать колеса, эти рабочие на вопрос мой, за что они здесь, отвечали, что высланы починять дорогу, а когда я спросил их, почему же они сидят без дела, они отвечали, что все равно, что чини не чини, а по полтине с человека все-таки отдай, а без того не спустят с дороги. Теперь во всех губерниях дороги если еще не исправлены, то исправляются, а в Пермский уезд две недели как нет проезда. Встречающиеся обыватели, вытаскивая из грязи проезжих, все рассказывают, что исправник прошлый год три раза выгонял на починку и три раза сбирал с них “хорошо бы еще по полтине, а то и обрублит с души”. Благодаря таковым спекулятивным направлениям дорога находится в настоящее время в блестящем положении: ехавший ранее меня г. Данекс отбил себе от толчков легкие и умер на дороге, и похоронен на станции. Редкие проезжающие, решающиеся пускаться в путь, следуют по 8 и 10 часов станцию почты, ночуют в грязи, и курьеры, так как я, из каждого зыбуна должны выбираться помощию прохожих и встречных. Такой приятный прогресс в улучшении дороги в Пермской губернии побуждает меня довести его до общего сведения, приглашая всех проезжающих здесь же изложить их приключения в той надежде, что глас народа - глас Божий, и авось хотя эта гласность побудит исправников приняться за улучшение дороги. Теперь же остается мне пожелать им от себя и от имени вдов и сирот умирающих на их дорогах, от имени утопающих в грязи почт, чтобы судьба привела им прокатиться по подобной дороге курьерами без промедления. Тогда бы они узнали, как тяжки для чужих боков их дорожные спекуляции и что насыпая постоянно на дорогу глину с тремя в возе ее камешками, они приводят дорогу в состояние, удобное для выделки кирпича и для ловушки проезжающих. Кажется, в Урале чего другого, а камня найдется, слава Богу, много, и нет надобности унавоживать дорогу глиною вместо того, чтоб посыпать ее чистым мелким и разбитым камнем, как это делается там, где начальством обращается строгое внимание на состояние дорог и действия исправников, например, в Восточной Сибири.
Капитан Романов, следующий курьером к графу Муравьеву-Амурскому по Высочайшему повелению.
Жалоба записана 18 апреля 1859 года”.
Жаль, что капитан Романов не знал или не имел случая узнать, что в пяти верстах от Екатеринбурга у самой большой дороги есть огромная и старая каменоломня (так называемые Палатки), откуда ежегодно берут множество камня для городских строений. На этой каменоломне годами скопилось множество мелкого щебня, который для починки дороги и колоть не нужно, а просто нагребать лопатами: его было бы достаточно на поправку не одного десятка верст. И между тем на дорогах мимо этой каменоломни едва ли найдется кусок щебня, кроме тех, которые падают с возов при перевозке камня в город. Здесь дорогу починивают (т.е. собственно никогда не починивают) мещане города Екатеринбурга.
Затем могу еще сообщить, что по обыкновенному свойству здешнего климата половину апреля была отличная теплая погода: всю неделю Пасхи дни были теплые, светлые, вечера не холодные. С последним днем Пасхи кончилась и хорошая погода: сначала подул холодный ветер, потом пошел дождь, потом посыпала крупа, и наконец несколько раз принимался падать снег. Теперь погода снова поправляется (и дорога около Екатеринбурга также) и, кажется, обещает быть хорошею, т. е. погода, не дорога. [...]
Есть еще одно дело, которым заняты умы екатеринбургской публики, но об нем нельзя много писать: это роман, который сочиняется в екатеринбургском уездном суде, а главное действующее лицо романа сидит на гауптвахте. [...]
В случае, если вздумаете взять что-нибудь из этого письма в “Дневник”, прошу Вас, не выставляйте моего имени»[22].
А вот еще одна история, печальная. Читаю за архивным столом письмо Я. Борисоглебского из Шуи. «...Верст за 30 от нашего города есть резиденция одного станового пристава. Ему ли для чего, или почтеннейшей супруге его 18 числа сего месяца понадобилось иметь I1/ аршина белого кашемира. Как кашемира этого на месте пребывания г. станового пристава не нашлось, то он послал в наш город одного из безответных слуг своих, десятского, с строгим приказанием явиться этого же числа с покупкой обратно. Бедный десятский, какой-нибудь бездомовый бобыль, живущий подаянием от людей, выбиваемых им за различными самопустячными пустяками в становую квартиру, не мог нанять подводы до города, а от пославшего на это дано не было. При +28° и при совершенном безветрии пройти пешком по открытому полю 30 верст с утешением измерять и обратно это пространство... — недурная вещь. Но как бы то ни было, а десятский половину приказания в точности исполнил, пришел сюда, явился в ярмарочные ряды, спрашивает кашемиру в одной лавке, другой, третьей — нет кашемиру. Это совершенно обескуражило посланного. На лице его можно было читать ожидаемый им неласковый прием станового — от предположения, что десятский совершенно в город не ходил, потому что, быть, дескать, не может, чтобы на ярмарке не нашлось таких пустяков. К счастию, приказчик той лавки, против которой горемыка десятский стоял таким убитым, нашел в постоянных городских лавках требуемого кашемира. Но десятский и от 30-верстного пройденного по такой жаре пути, и от мысли при неотыскании в ярмарочных рядах кашемира получить себе, как неисполнившему приказания станового пристава, тяжкое наказание от него, так был ошеломлен, что не мог выдержать всей крепостью своей натуры, в глазах всех окружавших его зашатался и упал. Прошло минут 10 или 15. Несчастный десятский при участии посторонних лиц, очувствовавшись, встал и отправился доканчивать свое поручение.
Господи Боже мой! Когда же у нас становые-то приставы будут прежде всего люди, а потом и хорошие полицейские чиновники? Уже ли здоровье и самая жизнь какого-нибудь десятского дешевле аршина кашемиру?»[23].
Герои вроде этого станового нередки в произведениях П.И. Мельникова. Мало чем по сути своей отличается от полицейского чина, описанного Я. Борисоглебским, князь-самодур Алексей Юрьевич Заборовский («Старые годы») или Семен Родионович Богачев («Семейство Богачевых»). Эпохи разные, а люди... Люди почти что те же.
* * *
В 1866 г. в журнале «Искра» появилось стихотворение Василия Курочкина «Великие истины»:
Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Мрак с тишиной нам ненавистен,
Простора требует наш дух,
И смело ряд великих истин
Я первый возвещаю вслух.
Порядки старые не новы
И не младенцы — старики;
Больные люди — нездоровы
И очень глупы дураки.
Мы смертны все без исключенья;
Нет в мире действий без причин;
Не нужно мертвому леченья.
Одиножды один — один [...]
В сей песне сорок восемь строчек.
Согласен я — в них смыслу нет;
Но рифмы есть везде, и точек
Компрометирующих нет.
Эпоха гласности настала,
Во всем прогресс, но между тем
Блажен, кто рассуждает мало
И кто не думает совсем.
Эта (да только ли эта?) эпоха гласности отличалась тем, что требовала особого мужества, чтобы писать правду. Что и доказывают письма в «Русский дневник».
Вот письмо Василия Шевича[24] из города Зенькова (недалеко от Полтавы), написанное 7 июня 1859 г.:
«Меня постигло несчастие, Ваш сотрудник получил смертельную рану в борьбе за правду.
Дело такого рода. Описанный пасмурный зеленый смотритель обличаем был мною фактически в “воровстве-мошенничестве”, дело тянули и заминали, потому что факты слишком ясно говорят за себя, наконец, обещая нарядить формальное следствие по этому делу, сделали мне письменное формальное предложение от лица директора совершить полюбовную сделку с обвиняемым, и когда я с презрением отверг это предложение, меня от 2 июня уволили от должности.
Положение мое страшное и горькое, я человек семейный, теперь решаюсь идти пешком в Петербург для того, чтобы лично представить Государю или Константину Николаевичу письменные факты о директоре Полтавской гимназии, факты, от которых Петербург ахнет.
В какой мере виноват в этом безбожном деле Пирогов, еще в 4-м нумере своих циркуляров объявивший меня первым преподавателем по округу, я еще не могу судить, но во всяком случае после такого злого дела, совершенного его именем, я, оставаясь нищим, считаю унизительным для своей совести обращаться к нему.
Ежели же я не дойду до Петербурга, умру на дороге, помолитесь, Павел Иванович, за человека, в настоящее время раненого и изнемогающего во имя правды.
Бога ради, ежели не встретит затруднения в цензуре статья моя “Сделки некоторых администраторов”[25], поскорее прикажите напечатать ее, — ежели мне суждено умереть скоро, пускай это будет лебединая песня моей краткой жизни и более еще краткой литературной деятельности.
3-е письмо “Проезжего” отправил вчера к Вам.
Позвольте, пришедши в Петербург, мне лично познакомиться с Вами. Газету продолжайте высылать, жена будет получать»[26].
Спустя полторы недели после того, как Василий Шевич бросил в почтовый ящик свое письмо, другой автор «Русского дневника», Ю. Милашевич из Воронежа, писал П.И. Мельникову:
«На статейку мою, напечатанную в №113 Вашей газеты, появилось неприличное возражение в “Воронежских] ведомостях”. Оно принадлежит самому Синельникову.
Как ни мучительно желал бы отвечать на нее в скором времени, но не смогу сделать этого по следующим причинам.
Статейка моя сильно не понравилась Синельникову. По его настоянию из нее сделали служебное дело на основании закона, что “военнослужащий не может ничего печатать без разрешения своего начальства”. Кажется, мне придется подать в отставку, что и решится окончательно на днях. Следовательно, я связан теперь по рукам и ногам, и потому не удивляйтесь, ежели мое молчание продлится месяца на два. [...]
Кстати, он (Синельников) объявил мне, что будет жаловаться на Вас министру за статьи мои и “По поводу голоса из провинции”. При всей невероятной глупости подобного дела, от него оно может статься»[27].
Теперь поясним это письмо. Ю. Милашевич рассказал в «Русском дневнике» о лотерее, устроенной в Воронеже некими «фокусниками» Мартини и Лемергардом с дозволения местного начальства. Каждый, кто заплатил 50 копеек, выигрывал какую-нибудь безделушку: кусок мыла, жестяную коробку для спичек, 25 штук папирос и тому подобное. Самой ценной вещью были золотые часы, привлекавшие зевак к этому балагану. «Не говоря уже о том младенческом простодушии, с каким поддаемся мы самым грубым приманкам шарлатанства и так равнодушно расстаемся с трудовою копейкою, нельзя не возмутиться при мысли, что это беззаконное средство выманивать у ближнего деньги совершается свободно, открыто, среди бела дня и даже с сознанием права». Ю. Милашевич не спрятался за псевдоним, как другие авторы «Русского дневника», и подписался подлинной фамилией. В дело вмешался воронежский губернатор Николай Синельников, до которого дошел номер «Русского дневника». И Милашевичу пришлось очень туго...
Спустя еще несколько дней Ю. Милашевич сообщил, что в «Русский дневник» послано письмо в его защиту и что он об этом никого не просил.
И все-таки... В.С. Курочкин, конечно, попал в самую десятку своими «Вечными истинами». Но вместе с тем, тогда, на рубеже 1850–1860-х, была огромная вера в гласность. Она казалась сильным средством, способным изменить жизнь провинции да и страны в целом к лучшему.
«Побольше гласности, и просветятся все захолустья, все медвежьи углы», — призывал читатель «Русского дневника» Иван Медведев из Пензы. Он отзывался на одну из статей, помещенных в № 50 от 6 марта. «Затрепетали люди, зло делавшие, ибо гласно о них пишут!» В письме прилагал копии документов о злоупотреблениях пензенского губернатора Панчулидзева. «Выберите и выкройте, что можно, для Вашей газеты!». Губернатор «злом и свирепым своеволием более четверти века тяготел над нашей местностью, всякое проявление ума, независимости им угнеталось! Народ им был задавлен. Самовластие его давно уничтожило всякую самостоятельность судов!»[28].
Другой читатель газеты, В. Андреев из Архангельска, обращаясь с просьбой отложить публикацию его критического письма и рисуя провинцию черными красками, подчеркивал важность газеты, способной писать о всех недостатках открыто: «Смело могу сказать, что если в других городах также интересуются помещенными о них статьями, то “Русский дневник” имеет массу читателей громадную. Учись хоть этим средством, русский люд, грамоте!»[29]
Читатель Александр Буцулло из Ейска в своем письме П.И. Мельникову называл «Русский дневник» «сильным уже по самому своему назначению органом гласности»[30].
Были люди, видевшие в гласности и в сатире прямой вред. В один прекрасный день на стол П.И. Мельникову легло письмо от учителя витебской семинарии Матвея Красавицкого. Там была статья «Необходимое предостережение» о провинциальном сплетничестве и пропаже из ризницы кафедрального собора старинного архиерейского жезла из чистого серебра весом в 36 фунтов. В конце семинарский учитель пространно рассуждал о том, каким же надо быть русскому народу. Надо не заниматься сплетнями и не ругать чиновников, а помнить заповеди о терпении и обуздании языка, постигать науки. «Если же тянет тебя к книге, то читай книги душеспасительные...», — советовал он. Представляю, как изменился Павел Иванович в лице, когда дочитал письмо до конца, до пятого листа. Там упоминался его псевдоним и далее следовал совет не читать произведения Печерского. Красавицкий не подозревал, что писатель Андрей Печерский и редактор «Русского дневника» П.И. Мельников — один и тот же человек. «Если ты бросишь Гоголя, не станешь нарасхват покупать Белинского, которого не следовало бы и издавать, и вообще не будешь читать произведений азартной литературы, то авось Щедрин, Печерский (эта фамилия в автографе письма тщательно замарана карандашом. — В.Б.) и другие сойдут со сцены и на твоем небе снова станет тихо и приветливо светить солнце, а на земле зажурчат ручьи, заблеют барашки, замычит крупный скот, заиграют пастухи на свирелях; художественная литература воспитает художественных людей, художественные люди прославятся художественными делами, даст Бог, со временем вся жизнь твоя превратится в одно художественное произведение, в один бесконечный ряд разнообразных фокусов, и ты будешь счастлив под смоковницею своею, и язык твой сам собою сделается мягок и тих»[31].
Вот такая идиллия!
* * *
Первый номер «Русского дневника» открывал охотничий «Очерк зимнего дня» Сергея Тимофеевича Аксакова. Он не был единственным уже признанным писателем, кого П.И. Мельникову удалось привлечь к сотрудничеству.
Получилось уговорить опального священника Ивана Степановича Беллюстина, впавшего в немилость из-за изданной за границей книги «Описание сельского духовенства» — правдивого и прямого изображения быта провинциальных служителей алтаря. Вот его письмо П.И. Мельникову:
«Аз есмь иерей богоспасаемого града Калязина. Сидеть бы мне спокойно, как тысячи собратьев, закрывши глаза на все, сжегши совесть, — спокойно бы протекла моя жизнь. Так нет, взошла мне дикая фантазия: видеть все и записывать. Великому приятелю моему М.П. Погодину взошла в голову не менее дикая фантазия: убедить меня, чтобы я из своей тетрадищи сделал хоть краткие извлечения. Еще одному господину пришла дичайшая фантазия: напечатать все это за границей под нелепым заглавием “Описание сельского духовенства”. Напечатанное за границей появилось и на Святой Руси. Как это первоначально была домашняя записка, то я не считал нужным лукавить в ней. Как извлечение вовсе не предназначалось для печати, то и в нем нашлось многое, не угодное нашим господам великим. Какой же результат?
Самый утешительный для меня: светлейший Синод определил сослать меня навсегда на Соловки!.. И это без суда, без опровержения высказанного мною, а так себе втихомолку, единственно потому, что святейший Синод, а я ничтожнейшая пешка... Не забудьте, он же, святейший Синод, хорошо знает, что у меня девять человек детей; что я беднейший человек на земле; что вместе со мной гибнет вся семья моя... Не забудьте, он же, святейший Синод, хорошо знает, что я двадцать уж лет прослужил с честию; работой головы кое-как восполнил свою нищету, а не крохоборством и грабежом по образу прочих...
Милостивый, благородный, умный царь наш спас пока меня...
Вот что было со мной в декабре, январе и начале февраля. Теперь прощаете ль Вы меня за медленность?
Будущее мое еще страшно, но начал дышать несколько посвободнее.
Пользуясь этим, спешу расплатиться с Вами. Доставляю первую статейку: “Что будет с уездными городами?”[32] Всего их будет четыре. Угодно Вам - извольте напечатать; нет — бросьте или, будет милость, возвратите. Пришлю о другом чем-либо. Мыслей бездна; дал бы Господь Бог только избавиться от власти темныя. Даже и в том случае, если не избегу гибели, Вы не потеряете ничего: на уплату Вам предназначены лучшие друзья мои — книги, тем более дорогие друзья, что приобретены не деньгами, а потом и ночным трудом.
Вам угодно знать мое имя и отчество; извольте: Иоанн Степанович. Но откровенно — я враг великих величаний. Самое дорогое имя для меня — брат»[33].
И.С. Беллюстин просил подписывать его статьи псевдонимом «Бэль». В крайнем случае, разрешал указывать в качестве автора брата — Андрея Степановича Беллюстина.
Постоянным автором «Русского дневника» стал известный писатель Григорий Петрович Данилевский (псевдоним — А. Скавронский), автор исторических романов «Мирович», «Княжна Тараканова», «Беглые в Новороссии» и др. Он присылал статьи об охоте, поставив себе задачей в четырех письмах описать охоту в разные времена года. Писатель жил в то время на хуторе Петровка близ города Чугуева в Харьковском губернии.
«Я охотник по крови. Дед мой, оригинальнейший из старосветских наших типов, уже покойник, проживший громадное состояние, отец мой, покойник тоже, дяди мои, весь наш околоток — охотники в душе. С детства я бродил с ними и за ними, за отсутствием ружья сопутствуя им с палочкой. [...]
Кстати, мы с Вами незнакомы. Вы меня знаете, вероятно, с незавидной стороны: по моим журнальным работам года четыре назад. С той поры, как я уехал сюда по поручению В[еликого] К[нязя] Константина Николаевича (в 1856 г. Г.П. Данилевскому было поручено сделать описание прибрежьев Азовского моря и устьев Дона, а в следующем году он вышел в отставку. — В.Б.), в числе 7 других, им посланных, я увидел многое, испытал многое и другими глазами смотрю на вещи и на мою страстно любимую мною родину. Плодом моей поездки в печати были до сих пор “Нравы чумаков” в “Библиотеке” Дружинина и “Украинские простонародные сказки” в “Русском вестнике” прошлого года в новой, выработанной мною форме. Это я считаю верными моими работами. Меня в особенности всегда преследовал “Современник”. Вероятно, Вы ему не разоблачите моего псевдонима, под которым в нем, в апреле, явился мой очерк “Сорокопановка”, чистейшая быль. Давно я не был в кругу товарищей моих по литературе и не знаю, изменилось ли их жесткое отношение ко мне. Между тем мой портфель наполнился довольно живыми сценами и записками. К зиме я, может быть, приеду в Петербург - издать сборник стихотворных сказок моих, напечатанных в мое петербургское] студенчество в “Отеч[ественных] записках”, а потом в “Москвитянине” и “Рус[ском] вестнике”, и книгу рассказов в прозе об Украйне. Теперь же меня третий год занимает наша устная и письменная старина. Из устных богатств я нашел явно искомую Максимовичем (Гоголь тоже ее искал) эпопею нашу, или скорее, обломок ее, отрывок народной сказки “Похождение Бога и ап[остола] Петра по земле нищими”, и записал ее со слов рыбака на Донце. Из письменности я нашел богатейшее собрание писем с начала прошлого столетия до 90-х годов этого, переписки одной помещичьей семьи с соседями, и дневник моего прадеда времен Елисаветы на промежуточных листках письменного календаря — о его быте и занятиях. Все это я обрабатываю для печати в отрывках, а между прочим сам себе еще не доверяю.
Я с Вами не знаком; сношения с друзьями я все прекратил. Не знаю, что в Вас возбуждают мои труды. Как Вы нашли “Сорокопановку”? Напишите. Это мне нужно. Не имея сил идти вслед обличительной литературе, идя старою, тихою тропой, недаром ли все это, что так еще горячо и сильно меня убаюкивает и увлекает? Скажите мне два-три слова. Клиентство мне не по душе. Но слово товарища я свято оценю»[34].
В «Русском дневнике» были опубликованы несколько «Писем об украинской охоте» и статей Г.П. Данилевского[35].
На призыв сотрудничать откликнулся еще один известный писатель — Даниил Лукич Мордовцев из Саратова.
«Я готов сообщать Вам все местное, что может быть интересно не для одного Саратова; мне кажется, из Вашей программы и письма я могу понять, с какой стороны жизни Вы хотите знакомить Вашей газетой русскую публику. В материалах, конечно, серьезных, мне кажется, недостатку не должно быть, была бы только цензура настолько снисходительна к общественной гласности, чтоб я мог говорить не об одних провинциальных спектаклях и обедах — тогда я готов работать. В качестве сотрудника во II отделе Вашего издания я могу служить Вам присылкою общедоступных статей по русской истории, по истории русской и славянской литератур, в размерах, дозволенных средствами, которыми я теперь располагаю. Н.И. Костомаров передал мне более полсотни архивных дел, которые он достал в архивах Царицынском и Петровском (последние отысканы на днях); несколько дел нашел я в старых архивах Саратовского магистрата и Конторы иностранных поселенцев. Дела эти относятся к царствованию Екатерины II, собственно касаются событий в Поволжье: дела о Пугачеве, которыми не пользовался Пушкин, дела о других самозванцах, о которых наши историки, кажется, не слышали — о Федоте Богомолове (за год до Пугачева — в Царицыне), Ханине (через год после Пугачева, там же), о знаменитом разбойнике Заметаеве, который наделал столько хлопот графу П.И. Панину, Суворову, солдатам и всей военной коллегии, о разбойнике Кулаке, Зубахине, вообще дела о смутных временах второй половины XVIII столетия. Очень жаль, что на днях я отослал Богомолова в один из журналов, я рад был бы видеть его в Вашем издании. Но у меня теперь готов небольшой очерк о Заметаеве: если Вам будет угодно иметь его, я просил бы Вас, милостивый государь, дать ему место в “Русском дневнике”, тем более, что он может быть вполне газетной статьей по объему, а по содержанию — только бы г. Па[нрзб]ов, Мацкевич, Гончаров или другой из цензоров обошлись бы с ним поласковее»[36]. Письмо датировано 4 ноября 1858 г. Написано в Саратове.
В январе 1959 г. на страницах «Русского дневника» (№№ 7 и 8) вышла документальная статья Д.Л. Мордовцева «Заметаев» — история разбойника, появившегося вскоре после Пугачева, грабившего суда на Волге и на Каспии.
Был готов к сотрудничеству поэт Иван Саввич Никитин, живший в Воронеже:
«Честь имею принести Вам глубочайшую благодарность за сделанное мне приглашение участвовать в трудах по издаваемой Вами газете.
Вам угодно было предложить мне постоянное периодическое доставление сведений о движении торговли в нашем крае. К сожалению, я не в силах исполнить такой приятной обязанности. В нашей глуши собрание фактов по этому предмету представляет величайшее затруднение. Нужно ходить со двора на двор, из лавки в лавку, чтобы узнать что-нибудь основательно, да и тут немного узнаешь: наши продавцы — народ неподатливый, его нескоро вызовешь на откровенность. Впрочем, я постараюсь сделать все возможное, и от времени до времени буду сообщать Вам о ходе ихних торговых дел. Но повторяю, облечь все это в правильную форму, привести в систематический порядок решительно нет никаких средств: во всяком случае, нужны же приблизительно верные цифры, писать наобум было бы бессовестно.
На первый раз прошу Вас принять от меня прилагаемую при сем небольшую статью, я прислал бы ее в половине декабря, но в последнее время у меня так было много разных работ, что я не имел даже свободной минуты ответить на Ваше письмо, что с моей стороны было очень невежливо и о чем я прошу у Вас извинения.
В истинном почтении и преданности имею честь быть Вашим покорным слугою.
Иван Никитин.
1858 г., декабря 29»[37].
Статей за подписью этого замечательного поэта в «Русском дневнике» не появилось, но, может быть, он сотрудничал анонимно. По крайней мере, статья, которую он предлагал, могла быть опубликована без подписи уже в январе 1859 г.
В «Русском дневнике» был опубликован рассказ П.И. Мельникова «На станции», который и поныне включается в сборники писателя. Другим художественным произведением, которое увидело свет здесь, стала повесть «Заузольцы». По свидетельству П.С. Усова, писатель начал ее под влиянием министра внутренних дел С.С. Ланского, «который, зная перо и обширные сведения Мельникова о русском народе и его быте, почти настоятельно убеждал своего чиновника приступить к его описанию с наибольшими подробностями»[38].
Заузольцы, значит, живущие за рекой Узолой, которая впадает в Волгу выше Балахны. П.И. Мельников относил к заузольцам жителей Балахнинского и Семеновского уездов Нижегородской губернии.
В 119-м номере «Русского дневника» начинается публикация «Заузольцев». Продолжается она в № 125, где развертывается история писаря Карпа Емельянова, в будущем, в дилогии «В лесах» и «На горах», — Морковкина. Через несколько номеров (в № 131) читатель встречает очередное продолжение повести. В № 133 на сцену выходит явно симпатичный автору купец Лукьян Никитич, который станет Патапом Чапуриным.
«А был Лукьян Никитич — душа-человек. Много добра творил и всегда рад был радехонек помочь человеку в беде, знал ли он его до того, не знал ли, - ему все едино. Раз гостил у него в Березовке барин из Зимогорска, и разгорелись, видно, у него глаза на достатки лукьяновские. Указывая на кацею, что стояла в переднем углу под образами, барин, прищуривши глазок, спрашивает:
— А какой, — говорит, — ты веры, Лукьян Никитич?
Лукьян смекает, куда барин речь-то воротит, тоже прищурился, да и бух ему в ответ:
— А такой, — говорит, — я веры, коли вот хоть ты, ваше благородие, оборони Господи, в полынью попадешь, а я тут случусь, так я по моей вере, тебя вытащу. Хороша ли, барин, моя вера?»[39]
Тут же следует сноска, что кацея — это ручная кадильница и в каждом старообрядческом доме она стоит под образами, «которые каждый праздник окуриваются из нее ладаном».
Дочерей Лукьяна Никитича в «Заузольцах» зовут Груша и Липа (Настя и Параша). Его жену — Орина (Аксинья Захаровна). Трифон Лохматый носит имя Пахом Трифонов, а его сын, который, так же, как и в романе «В лесах», идет к Лукьяну Никитичу наниматься в работники — Василий (в дилогии, напомним, — Алексей). Скитские старицы носят имена Августа, Евлампея, Измарагда. Их характеры не прописаны.
П.И. Мельников рассказывает, как велось в старообрядческом скиту воспитание дочерей Лукьяна Никитича: «В пять лет девицы прошли... часовник и все кафизмы, немало канунов наизусть затвердили, читать книги отеческие выучились бойко, выучились петь по крюкам и даже “развод демественному и ключевому знамени” разумели. Выучились Груша с Липой писать уставом; немало переписали оне “цветничков и сборничков” и посылали их в поминок родителям перед большими праздниками, а родители их, надо сказать, почитать на досуге книг душеспасительных любили, и куда как им дорого было перечитывать “Златоструи” и другие сказания, тщательно переписанные дочками родными, разукрашенные киноварью и лазурью. Какие “заставки” рисовала Груша на первых страницах “цветничков”, какие “финики” по бокам золотом выводила — хоть в Поморье, в Лексинском селении такие писать, да и то в старые года. Мастерица была! Выучились также девицы кошельки плести бисерные и шелковые, ткать пояски со словами из крученого золота, синелью вышивать подручники и лестовки. А сарафан сшить, рубаху скроить, по хозяйству заняться, — ну, матушка Евлампея девиц не обучала. Зачем, к чему это? — рассуждала их наставница»[40].
Теперь сравним, как это подано в романе «В лесах»: «Гостили девушки у тетки (игуменьи Манефы в скитах. — В.Б.) без мала пять годов, обучались божественному писанью и скитским рукодельям: бисерны лестовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канве шерстью да синелью вышивать и всякому другому белоручному мастерству. Отец-тысячник выдаст замуж в дома богатые, не у квашни стоять, не у печки девицам возиться, на то будут работницы; оттого на белой работе да на книгах больше они и сидели. Настя да Параша в обители матушки Манефы и “часовник”, и все двадцать кафизм Псалтыря наизусть затвердили, отеческие книги читали бойко, без запинки, могли справлять уставную службу по “Минее месячной”, петь по крюкам, даже “развод демественному и ключевому знамени” разумели. Выучились уставом писать и, живя в скиту, немало “цветников” да “сборников” переписали и перед великим праздником посылали их родителям в подаренье. А Патап Максимыч любил на досуге душеспасительных книг почитать, и куда как любо было сердцу его родительскому перечитывать “Златоструи” и другие сказанья, с золотом и киноварью переписанные руками дочерей-мастериц. Какие “заставки” рисовала Настя в зачале “цветников”, какие “финики” по бокам выводила — любо-дорого посмотреть!»[41].
Совпадает самая суть двух отрывков, не говоря уже об отдельных словесных оборотах. Только в первом случае тот факт, что девушек не обучали «черной работе» объясняется лишь волей матушки Евлампеи, а во втором это изначально предопределено социальным статусом Насти и Параши. При этом писатель тонким штрихом показывает, что внимание девушек сосредоточено не только на одном скитском рукоделии, усложняет характеры. Вот их отец берет рукописную тетрадь, читает духовные стихи. Потом «перевернул Патап Максимыч листок, там другая псальма:
Сизенький голубчик
Армейский поручик».
В номере 137 от 28 июня была помещена последняя глава «Заузольцев». В ней мать Измарагда пересказывает Груше и Липе столь любимые П.И. Мельниковым поволжские старообрядческие легенды. Писатель не удерживается от замечания в публицистическом духе: «А что, извольте вас спросить, нравственнее для девицы — весельчак Поль-де-Кок и Жорж Занд или простой, безыскусственный, но полный кипучей народной фантазии рассказ о сокровенном граде Китеже, о горах Кириловых, и прочая, и прочая?».
«Заузольцы» — наиболее крупное произведение, посвященное старообрядцам и опубликованное в «Русском дневнике». Других материалов о них в газете практически нет, несмотря на огромнейший интерес «Русского дневника» к истории и этнографии, к живой народной жизни. Мы можем констатировать, что газета не уделяла старообрядчеству внимания. Пять глав повести, что П.И. Мельников успел опубликовать, — это по сути своей, только вступление к некому большому произведению, знакомство с персонажами, которые не прописаны, не прорисованы глубоко (не успевал писатель). Повесть заканчивается развернутым пересказом легенд. Огромный и неизведанный мир заволжских скитов на мгновение приоткрылся читателю. Легенды о старцах Кириловых гор П.И. Мельников перенес потом в рассказ «Гриша» и, таким образом, они зазвучали и украсили уже завершенное, целостное произведение. Остальной материал пришлось «приберечь» до дилогии «В лесах» и «На горах».
* * *
В 141-м номере от 5 июля газета объявила, что прекращает выходить, поскольку вырученных от подписки средств на издание не хватает, а также «по независящим от редакции причинам». Редакция обещала вернуть деньги всем тем, кто уже подписался на второе полугодие. В последнем номере П.И. Мельников успел поместить очередной очерк Г.П. Данилевского из цикла «Письма об украинской охоте».
Об этих «независящих от редакции причинах» свидетельствует П.С. Усов. «Редактирование газеты выдающимся чиновником министерства внутренних дел было причиною, что ее стали считать его органом. Вследствие того министру С.С. Ланскому приходилось выслушивать замечания и неудовольствия на “Русский дневник”, как бы виновнику или вдохновителю статей, появлявшихся в нем. Такое положение оказалось настолько неприятным для С.С. Ланского, что он, наконец, призвал к себе П.И. Мельникова и предложил ему на выбор: или выйти в отставку из министерства внутренних дел и продолжать издание не в качестве его чиновника, или прекратить “Русский дневник” и остаться в таком случае на государственной службе. Не имея состояния, Мельников, как он сам мне говорил, предпочел остаться на государственной службе, дававшей ему средства к жизни. При недостаточном числе подписчиков, всего 1518, на полугодовое издание “Русского дневника” не только были израсходованы все деньги, собранные с подписчиков, но и затрачена была сверх того довольно значительная сумма. Так, Мельников получил в ссуду из сумм министерства внутренних дел 3000 р. на издание “Русского дневника”. По его прекращении эту ссуду стали вычитать из скромного жалования Мельникова, так что он был сильно стеснен в средствах к жизни. Долг этот был ему прощен только впоследствии, благодаря ходатайству тогдашнего директора Департамента общих дел графа Петра Андреевича Шувалова»[42].
Итак, газета просуществовала чуть более полугода. Много это или мало, чтобы сыграть какую-то роль в публицистике? Что касается общественного значения «Русского дневника», то по этому поводу стоит привести письмо известного в свое время публициста, старообрядца-беспоповца Василия Александровича Кокорева, который написал его П.И. Мельникову, узнав о прекращении газеты: «Вам известно, как радовались все мы появлению нового органа и каким уважением общества встречался чуть ли не каждый № Вашего “Дневника”, а номеров этих вышло в свет до 150... Как подписчик, я нисколько не считаю редакцию “Русского дневника” в долгу перед собою, и когда жалею о прекращении издания, то никак не из-за денежной потери. И в полутораста листках своих “Р[усский] д[невник]” успел высказать столько правды и пользы, сколько другим изданиям не придется отпечатать и в десять лет»[43].
[1] Мельников П.И. Об издании ежедневной газеты «Русский дневник» (листовка). СПб., 1858. С. 1.
[2] Там же.
[3] ИРЛИ. Ф. 569. Оп. 1. № 343. Л. 4–4 об. Курсив П.И. Мельникова.
[4] Там же. Л. 7.
[5] Сборник в память П.И. Мельникова (Андрея Печерского). Ч. 1. С. 128.
[6] ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 6. Ед. хр. 94. Л. 2. Курсив П.И. Мельникова.
[7] Аксаков К.С. Еще несколько слов о русском воззрении // Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 323–324.
[8] Мельников П.И. Об издании ежедневной газеты «Русский дневник». С. 1.
[9] Аксаков К.С. Указ. соч. С. 324.
[10] Мельников П.И. Об издании ежедневной газеты «Русский дневник». С. 1.
[11] Там же.
[12] Там же. С. 2.
[13] Там же.
[14] ОР РНБ. Ф. 27. Ед. хр. 698. Л. 1.
[15] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 714. Л. 1 об.
[16] Русский дневник. 1859. № 65. С. 3.
[17] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 732. Л. 1.
[18] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 372. Л. 2 об.–3.
[19] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 763. Л. 2.
[20] ОР НРБ. Ф. 37. Ед. хр. 745. Л. 1 об.
[21] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 697. Л. 2–2 об.
[22] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 705. Л. 1–2.
[23] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 709. Л. 1 об.–2 об.
[24] В «Русском дневнике» опубликовал несколько заметок и статей: Новости из Полтавской губернии // Русский дневник. 1859. № 23. С. 2–3; № 24. С. 2; Об образовании женщины в Малороссии // Там же. № 58. С. 4.
[25] Может быть, речь идет о статье с заголовком «Из Зенькова» в № 125 от 13 июня. Показаны типы провинциальных администраторов: что снаружи и что скрывается за их манерами.
[26] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 760. Л. 1–1 об.
[27] ОР РНБ. Ф.37. Ед. хр. 735. Л. 1–1 об.
[28] ОР РНБ. Ф. 37. Ед.хр. 733. Л. 1 об.
[29] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 695. Л. 2.
[30] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 711.
[31] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 730. Л. 5 об.
[32] Опубликована без подписи в № 80 «Русского дневника» от 17 апреля (С.4) и в №81 от 19 апреля (С. 3–4). Речь в статье шла об особенностях торговли, промыслах, купцах и мещанах уездных городов. Словом, она вполне соответствовала направлению газеты.
[33] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 670. Л. 2–2 об.
[34] ОР РНБ. Ф. 37. Ед. хр. 718. Л. 3 об.–4.
[35] Украинские сады // Русский дневник. 1859. №2. 40; Письмо об украинской охоте // Там же. № 73 от 3 апреля; Вести из Харьковской губернии // Там же. № 77 от 8 апреля; Письмо об украинской охоте // Там же. № 97 от 9 мая; Письмо об украинской охоте // Там же. № 141 от 5 июля.
[36] ИРЛИ. Ф. 95. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 1 об.–2.
[37] ИРЛИ. Ф. 95. Оп. 2. Ед. хр. 12. Л. 1–1 об.
[38] Усов П.С. П.И. Мельников, его жизнь ... С. 197.
[39] Мельников П.И. Заузольцы // Русский дневник. 1859. № 133. С. 1–2.
[40] Там же. С. 2.
[41] Мельников П.И. В лесах // Собр. соч. Т. 2. С. 13–14.
[42] Усов П.С. П.И. Мельников, его жизнь... С. 196.
[43] ИРЛИ. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1–1 об.
Теги: журналистика, «Русский дневник», Василий Курочкин, Григорий Данилевский, Иван Беллюстин, Даниил Мордовцев, Иван Никитин, «Заузольцы»